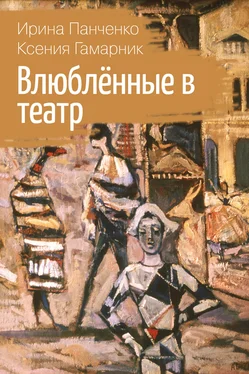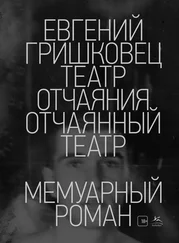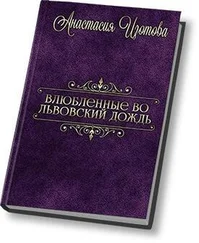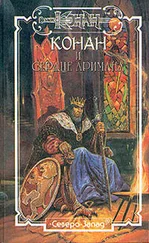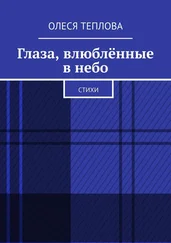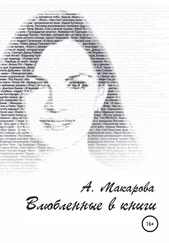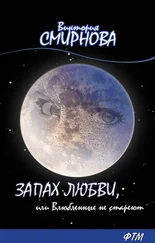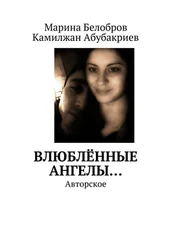Подобные темы присутствуют и в этих книгах: авторы рассказывают о своих природных артистических данных, о близких, родных, учителях, круге друзей, цене успеха: невероятной требовательности к себе, неистовом вдохновении, изнурительном труде… Узнаёт читатель и о профессиональном вкладе артисток в традиции московского Большого театра, в само искусство вокала и танца.
Ценителям оперного театра интересно признание Галины Вишневской, что, работая над ролью, она всегда шла «от её музыкального содержания к драматическому, а не наоборот». Проникновение в мысли и чувства композитора является для неё основой сценического образа.
Майя Плисецкая видит тайну искусства танца не в абстрактной технике, а в том, чтобы танцем «растрогать душу, заставить сопереживать, вызвать слёзы». Танцовщица своим исполнением стремится переключить внимание зрителей с техники «на душу и пластику». Однако Плисецкая справедливо считает, что «рассказать балет писчим пером – гиблое дело».
Профессиональные суждения и самохарактеристики даны в книгах как бы пунктиром. Смысловой стержень книг в другом: в авторском пафосе противостояния безжалостной государственной системе, которая наваливалась на художника, желая подчинить его, поработить, подмять, запугать, обезличить. Обе артистки стремятся выговорить, что у них наболело. Выговорить иронично, язвительно, резко. В этом своём сокровенном предназначении их книги типологически родственны.
Антон Чехов оставил завет выдавливать из себя раба по капле. Для наших артисток такая мера слишком мала. В исповедальном обвале тягостных воспоминаний они жаждут сразу выплеснуть, избыть своё вчерашнее государственное рабство, постыдное и унизительное.
«Стоишь, бывало, на сцене, – вспоминает Галина Вишневская правительственные концерты, – А кругом пьют, жуют, повернувшись к тебе спиной, гремят вилками и ножами, чокаются бокалами, курят. И в этом огромном кабаке (Георгиевском зале – И. П. ) ты пой и ублажай их, как крепостная девка». Майя Плисецкая, освобождаясь от ощущения подневольной зависимости, прямо формулирует: «Мы были зачаты страхом, покорностью, молчанием, трусостью, послушанием, рабством. Мы вытянули свой жребий, родившись в тюрьме… не хочу быть рабыней… Ошейника не хочу на шее… Отверженной быть не желаю, прокажённой, меченой».
Свои книги Вишневская и Плисецкая писали подобно тому, как творил Борис Пастернак («Писать стихи, что жилы отворить»). Интонация исповедальности, душевной обнажённости авторов в каждой из этих единственных в своём роде книг потрясает.
Галине ощущение счастья приносит пение. Только в моменты выхода на сцену Большого театра она могла, наконец, внутренне «раскрепоститься, стать собой, дать волю воображению…». Галину ярко характеризует рассказанный ею в книге случай. В Вене от свечей на сцене во время исполнения партии Тоски прямо на глазах у зрителей у неё на голове загорелся нейлоновый шиньон. Дали занавес. К счастью, схватив горящий шиньон обеими руками, артистка быстро содрала его, не жалея собственных волос, не замечая того, что у неё обгорают ногти на руках. И хотя зрители уже не надеялись её услышать, Галина вновь вышла на сцену и допела арию с забинтованными руками. Она призналась в книге: «Для меня во время исполнения роли всё, что я делаю на сцене, так важно, как вопрос о жизни и смерти. Если бы мне отрезали голову, только тогда я не смогла бы допеть спектакля».
Майе полное ощущение счастья приносит танец: «Каждая дощечка, каждая щербинка была мной освоена, обтанцована. Сцена Большого вселяла в меня чувство защищённости, домашнего очага… Мышцы ног, рук, спины слышат музыку как бы сами по себе, вне моей воли». Майя обладает такой же силой воли и самоотверженностью, как и Галина. Премьеру «Чайки» во Флоренции она танцевала со сломанным пальцем левой ноги. Перед каждой репетицией, каждым спектаклем замораживала палец хлорэтилом.
Жизнь в искусстве требует каждую из артисток целиком. И тем ужаснее, что именно они оказываются вовлечёнными в идеологический конфликт Художника и Власти.
Травля Плисецкой началась ещё в конце 1940-х годов из-за непосещения ею политчасов, на которых артисты Большого в принудительном порядке обязаны были коллективно повышать знания основ марксизма-ленинизма. Позже из-за доносов кагэбистов, обязательно сопровождавших на гастролях советских артистов, Майя на шесть долгих лет попадает в чёрные списки «невыездных», а после частной встречи в Москве со вторым секретарём английского посольства за ней по пятам стала следовать машина с сотрудниками КГБ. И, наконец, в 1956 году фабрикуется обвинение Плисецкой в работе на английскую разведку. Причём обвинение настолько нешуточное, что о нём специально докладывал генерал КГБ Серов на заседании Политбюро. «До того затравили, – рассказала Майя, – что я ни дня тогда без мысли о самоубийстве не жила. Какую только дорогу на тот свет предпочесть, раздумывала. Повеситься, выброситься из окна, под поезд лечь…». О сотрудниках КГБ, принимавших участие в преследовании, Плисецкая, не прибегая к эвфемизмам, не желая прятаться за интеллигентским слогом, так прямо и пишет: «Сволочи!».
Читать дальше