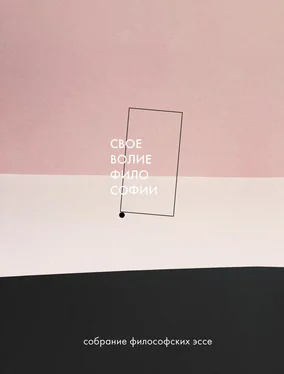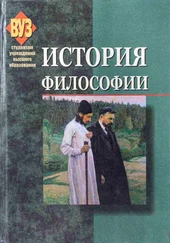1 ...6 7 8 10 11 12 ...22 Эту историю взаимоотношений эссе и его автора можно продолжать и продолжать, но это предисловие – лишь совокупность во многом случайных впечатлений того, кто не исследует эссе и не может определить его, впрочем, точно так же, как и специалисты-исследователи. И все же эти случайные впечатления склонны повторяться и складываться в некую, пусть и столь же случайную, целостность, в основе которой та простая мысль, что это о себе говорит философ, себя мыслит, о чем бы он ни говорил и ни мыслил: о началах ли мира или о тут-бытии. Понимание эссе как опытов означает, в первую очередь, что не из текстовой традиции исходит автор, но из своего индивидуального бытия, из себя, так как опыт может быть только своим (чужой опыт уже принимает форму знания и лишается того, что присуще опыту как таковому, то есть его исключительной единственности – в единственности того, кто является его субъектом). И эссе есть не повтор (то есть не изложение чужих опытов) и не вымысел, ибо опирается на предельную в своей явности, данности реальность мыслящего – его собственное бытие. Это собственное бытие есть то, что в наименьшей степени является вымыслом, ибо, если и оно есть вымысел, то уже ничто не может не быть таковым. Не случайно литературоведы ставят эссе в один ряд с автобиографией, биографией, дневником и мемуарами – теми жанрами, в которых находит выражение личный, индивидуальный опыт. Но слово «опыт» имеет и другой смысл, комфортный для философского эссе – ведь мышление всегда есть экспериментирование с идеями: опыт ставится над мыслью. В конце своего ответа на вопрос «Что такое Просвещение» Кант говорит в сноске: «мой ответ может быть только опытом, и случайно может оказаться, что наши мысли совпадут» – собственная мысль и высказывание есть всегда только собственный опыт философа, и то, что они могут совпасть с идеей и высказыванием другого есть именно совпадение: они все равно остаются единственным опытом философа.
Опыты-попытки могут быть разные – эмоциональные, интеллектуальные, опыты, раздвигающие границы индивидуальной биографии до истории человечества или отдельной культуры (как это происходит с Монтенем) или опыты сиюминутных впечатлений, опыты прочтения и опыты сочинения, перевода, приятия и критики. Объединяет их значимость, изначальность субъекта опыта, его тождественность самому опыту, понять которую помогает идея тождественности человека как субъекта и поступка как того, абсолютным началом чего (действия, слова, мысли, чувства) он является.
В эссе конкретный индивидуальный жизненный опыт становится не предметом осмысления и не поводом для мысли (хотя и то и то может присутствовать), но выразителем того, что философия есть всегда мышление философа в его единственности, воспроизводящее и порождающее мир как его мир. С этой точки зрения – любой подлинно философский текст есть эссе.
Если любой философский текст есть эссе, тогда как мы можем выбрать тексты для публикации в собрании эссе? Остается только довериться названиям, данным авторами, или собственному читательскому выбору, или решимости автора поместить свой текст в собрание философских эссе. В конце концов, точно так же, как, если следовать моралисту Джонсону, случаен, а от того божественен, выбор темы эссе, также случаен и выбор произведений, составивших это собрание эссе, а потому он совершенно необходим (божественен). Перед этой книгой не стоит задача понять, что есть философское эссе, как она и не задумана претендующей на репрезентацию жанра. Цель ее – в ней самой, и поэтому ее можно считать бесцельной. Она самодостаточна и уже в этом своевольна.
Есть ли в ней полнота описания? – нет. Ее даже можно представить настолько иной, что в оглавлении не повторилось бы ни одно название из нынешнего, и тем не менее, она оставалось бы той же книгой. Вопрос, почему избраны эти тексты, а не иные, бессмыслен по отношению к ней, как вопрос, почему философ помыслил о том, а не об этом. Он бессмыслен еще и потому, что эссе понимается как способ бытия мыслителя как автора: это определяет его абсолютную единственность, нерядоположенность – в том числе нерядоположенность в ряд эссе. Этот ряд вообще невыстраиваем, и всякая претензия на репрезентативность и некую полноту является в данном случае оксюмороном. С тем же успехом антология философских эссе могла бы состоять и из одного, и из тысячи текстов. Случайна и встреча в одной книге тех или иных авторов: но сколь она случайна, столь и абсолютно необходима. Многообразие возможных отношений автора к своему тексту обернулось тем, что кто-то написал текст специально для этой книги, кто-то пытался написать его, но затем предложил для нее старый, но любимый, кто-то отдал только что написанный для другой публикации. Своевольный философский взгляд на мир как на себя породил ряд неупорядоченных и нерядоположенных эссе, которым присуща «парадоксальность портрета» (Г. Лукач). Портрет дает «жизнь человека, который некогда воистину жил», а опытность эссе – в том, что его автор воистину живет. Но «Похоже? На кого? Естественно, ни на кого. Ведь Тебе невдомек, кто на ней изображен; наверное, Ты никогда не сможешь об этом узнать. Но даже если дело обстоит так, это едва ли Тебя интересует. И все-таки Ты чувствуешь: портрет похож» (Г. Лукач). Таково и эссе – похоже, хотя я не знаю, на кого и кто это, и хотя это мое собственное неузнавание. Неузнавание себя и в собственном тексте, и в фотопортрете, и в словах, сказанных обо мне другим, и в собственных словах. Но можно ли говорить о непохожести созданного собственным своеволием? Портретность эссе не в содержании. С точки зрения содержания, как отмечает Ролан Барт, написание собственного портрета есть всего лишь создание еще одного текста, добавляемого к предыдущим, при отсутствии гарантии, что он истиннее, чем они. Не в содержании, ибо субъектность бескачествененна как абсолютное начало. Эссе – не автопортрет, но попытка быть самим собой в мысли, это не познание самого себя, но бытие самим собой. «Я сам» как содержание эссе есть не изображение меня, например, посредством множества цитат, но это я сам, присваивающий себе многообразные высказывания других, тасующий их по собственному усмотрению, подобно тому, как я тасую события собственной жизни и жизни других, подчиняя их ходу своей мысли и превращая весь мир в опыты.
Читать дальше