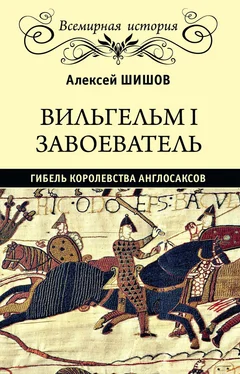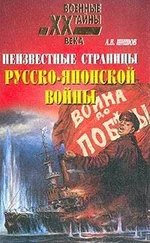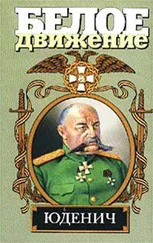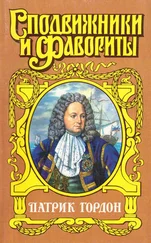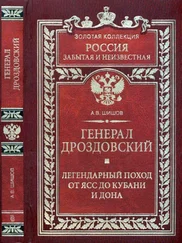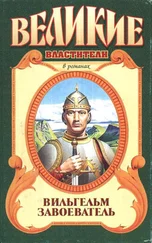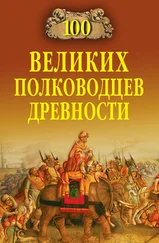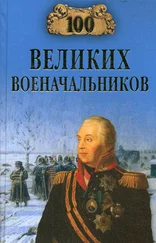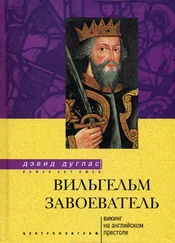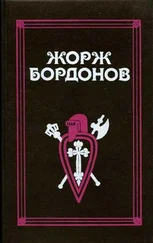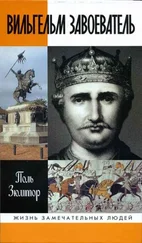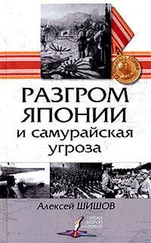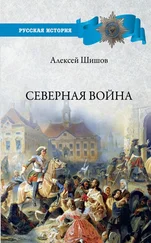Все ожидали казни несговорчивого Ги де Брионна. Но герцог поразил всех своим великодушным прощением самого упорного мятежника в его владениях. Поверженный мятежник, с которым Вильгельм был знаком с детства, был одарен свободой, хотя и лишился немалой части земельных владений. Ги де Брионн беспрепятственно покинул Нормандию и отправился в родную для него Бургундию, где герцогом стал его брат. Он там тоже прослыл мятежником-неудачником. После этого пути Вильгельма с ним не пересекались.
Напрашивается вопрос: почему герцог Вильгельм видел в баронских замках большое зло для себя и почему он так стремился их разрушать? Ответ на этот немаловажный для рыцарского Средневековья в Западной Европе вопрос дает все тот же Вильгельм Жюмьежский. Описывая баронскую смуту в Нормандии 1037–1042 годов, он сообщает:
«Когда герцог был ребенком, многие нормандцы, забывая о своей верности ему, почти повсеместно возводили земляные укрепления, которые должны были стать для них надежными укрытиями».
Баронский, рыцарский замок, возведенный без обязательного разрешения на то герцогом, в те годы виделся всем символом стремления к личной независимости от правителя Нормандии. То есть каждый такой «самострой» отдавал духом мятежничества. Возводились и каменные замки, но это было доступно только самым богатым баронам и прочей состоятельной знати.
Разумеется, что далеко не все незаконно возведенные замки разрушались. В наиболее важных из них по местоположению и в приграничье ставились воинские гарнизоны, начальники которых подчинялись лично герцогу. Порой такие фортификации усиливались, достраивались. Бывшему владельцу в таком случае приходилось жить с семьей по соседству в бурге – укрепленном деревянном доме, вполне напоминавшем рядовой рыцарский замок той неспокойной поры.
Последствия битвы при Валь-эс-Дюне историки прошлого и современного оценивают вполне единодушно: она завершила объединение Нормандского герцогства. Феодалы (виконты, бароны, рыцари) разных его областей больше не высказывали сепаратистских устремлений, и тенденция возвращения к ним в летописи этой части Французского королевства больше не проявлялась.
…Вильгельм искал всевозможные пути замирения баронской Нормандии и упрочения герцогской власти в ней. Он прекрасно понимал, что одним оружием власть упрочить нельзя, чему было много примеров из жизни Франции. Исследователи до сих пор не сходятся во мнении, кто подсказал ему мысль об установлении в герцогстве так называемого «Божьего примирения». Проект его появился на свет в 1047 году.
Такое нововведение в системе герцогской власти было вызвано двумя основными причинами, побудившими 20-летнего Вильгельма обратиться к силе духовной, то есть к силе церкви, на которую он мог опереться не всегда.
Первая причина заключалась в том, что Нормандии грозила волна народных возмущений. Она вызывалась «небесной карой» за случившийся неурожай и эпидемию «священного огня», как тогда назывались «рожистые воспаления». От них пострадала большая часть Французского королевства, в том числе и герцогство.
Второй причиной стало появление в Нормандии ученого священника из Лотарингии по имени Ричард из Сен-Ванна, аббата-бенедиктинца из города Вердена. Этот человек, будучи «чужеземцем», добился заметного влияния на архиепископа Руанского, что повлекло за собой ряд изменений в области литургии.
Итогом таких духовных изысканий герцога стал созыв знаменитого в то время Канского собора. Место для его проведения – Нижняя Нормандия было выбрано по политическим мотивам. Город Кан, вне всякого сомнения, вошел в историю Средневековья благодаря проведенному здесь собранию высокопоставленных светских и духовных особ Нормандского герцогства.
Канский собор был собран в 1042 (или в 1047) году. Постановления, принятые на нем почти одиннадцать столетий назад, дошли до нас в шести рукописях. Текст одной из них озаглавлен «Соборный декрет о мире, обычно называемом Божьим перемирием, установленном герцогом Вильгельмом и епископами Нормандии».
Согласно решениям Канского собора, на земле Нормандии любые преступники строго наказывались за насилия, совершенные с вечера среды до утра понедельника и в церковные праздники. Наказаниями могли быть отлучение от церкви, денежные штрафы, изгнания сроком на тридцать лет. Что касается купцов и иностранцев, то их личная безопасность должна была соблюдаться круглый год.
Читать дальше