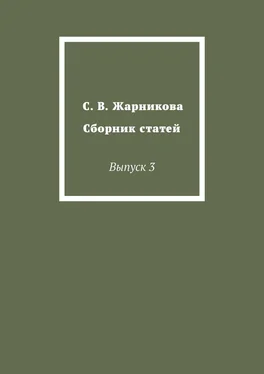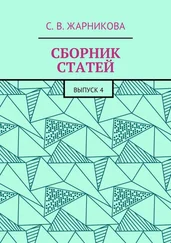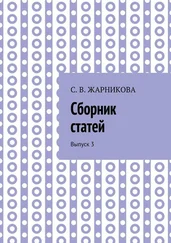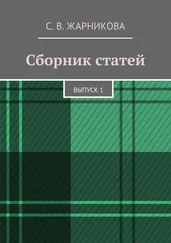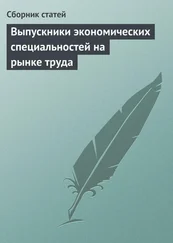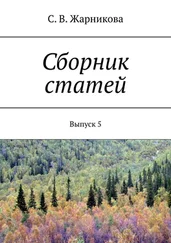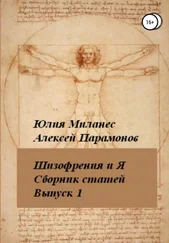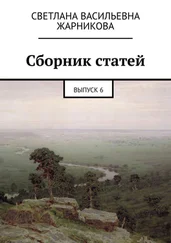Вы где, гуси, были?
Вы где побывали?
Где спали, ночевали?
Мы были у княгини,
Побывали у первобрачной,
Еще что княгиня делает?
Во гусли играет,
Дары снаряжает…
Интересно, что в ритуальной народной пляске, сохраняющейся до наших дней на Русском Севере (в частности, в Нюксенском районе Вологодской области), основной шаг (частый, как бы притопывающий по земле) называется «уточка». В такой пляске, благодаря постоянным повторам ритмообразующих движений, создается ощущение некоего пространства-времени, вне контекста обыденности. И здесь вновь хотелось бы обратиться к ведическим аналогиям, где: hansa – гусь, лебедь, душа, познавшая высшую истину, высший дух, стихотворный размер; с этим термином связаны и такие понятия, как: hansa – paksa – крыло лебедя, название определенной позиции руки в ганце, и hansa pada – киноварь. Имеет смысл вспомнить, что рабочая часть ткацкого стана, создающая узор ткани, носит название «утка» (уток).
В ведической традиции понятие «утка» ткацкого стана связывается с представлением о мироздании, где нить утка, не прерываясь, переплетается с основой и образует узор ткани, в которой основа – субстанционально-качественная (энергетическая) нить, а уток расцвечивает основу природы, осуществляет разнообразие узора ее необъятной, но единой ткани. Зная о том, что в древнейшей традиции музыкальный лад, связанный с гусями-лебедями, творит музыку Космоса, что игра на гуслях сравнима в этом мифо-поэтическом ряду с тканьем «мировой гармонии», можно понять, почему автор «Слова о полку Игореве» связывает в единый образ «стадо лебедей», поющих хвалебную песнь старым богатырям и героям, и «живые струны» гусель, по которым передвигаются пальцы Бонна, как по нитям основы уток, творя «ткань» эпической песни. О единстве понятий «узор ткани» и «узор песни», «ткать ткань» и «слагать песню» свидетельствует другое индийское слово prastava, имеющее аналогию в севернорусском диалектном – «прастава», «праставка» (вышитая или заполненная ткацким узором полоса, украшающая рубаху, полотенце и т.д.). Санскритское «prasiava» означает «хвалебная песнь»!
О том, что древнейший языческий культ водоплавающей птицы сохранял на Руси свое религиозное значение достаточно долго и был хорошо знаком православному духовенству, свидетельствует то, что еще в XIV – XV вв. монахи Муромского монастыря на Онежском озере высекли христианский крест не только на главном в композиции «Бесова Носа» изображении Беса, но и на находящемся на значительном расстоянии от него изображении лебедя.
Утицы, гуси и лебеди русской народной вышивки, уткообразные притужальники ткацких станов, солоницы, скобкари и братины в форме утки или лебедя, утицы, венчающие крыши домов, крыловидные гусли и гуси-лебеди, утицы народных обрядовых песен – все это свидетельствует об огромной древности и важности этих архаических языческих образов в народном мифопоэтическом восприятии мира.
Отражение языческих верований и культа в орнаментике северорусских женских головных уборов
(на материалах фонда Вологодского областного краеведческого музея)
Одним из важнейших направлений работы историко—краеведческих музеев является атеистическое воспитание населения музейными средствами. В то время как русская православная царковь серьезно и энергично готовится к празднованию 1000—летия введения христианства на Руси, работники идеологического фронта должны противопоставить этой подготовке широкую массовую разъяснительную атеистическую работу с привлечением ярких, наглядных и убедительных материалов. Думаетея, что в такой работе большую помощь могли бы оказать фонды произведений народного прикладного искусства, памятники которого сохранили в своем образном строе реликты древнейших мировоззренческих схем, сложившихся еще в недрах раннеземледельческих обществ, т. е. тех взглядов, представлений, символов, которые стали в значительной мере составляющей своеобразного феномена, называемого русским православием. Следы древнейших тотемических представлений мы постоянно прослеживаем в иконных композициях, в ритуале православной церкви, в ее обрядности.
В почти чистом, незашифрованном виде они выступают в русской фольклорной традиции, в аграрно—календарной обрядности и, конечно, в народной орнаментике. Здесь хотелось бы остановиться на таком локальном материале, как русская, а точнее, северорусская народная вышивка, конкретно, – на вышивке головок северорусских женских головных уборов, т. е. вещей в структуре костюма в какой—то мере сакральных.
Читать дальше