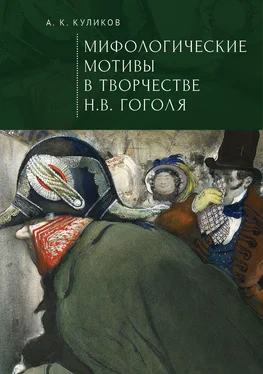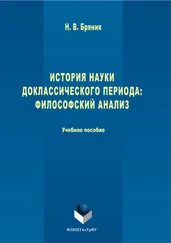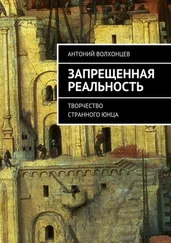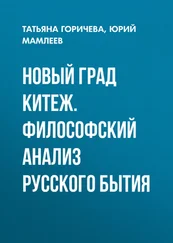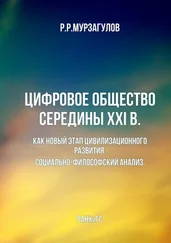Чин и орден могут казаться символами достоинства и заслуг, но в действительности мы ничего не знаем о том, что стоит за ними, мы видим лишь сами по себе отличительные значки и подчиняемся им, не спрашивая о том, что придает им подобную силу. Так, в страх и трепет повергают цирюльника Ивана Яковлевича уже одни только воображаемые алый воротник и шпага полицейского: «Уже ему мерещился алый воротник, красиво вышитый серебром, шпага <���…> и он дрожал всем телом» [3; 50]. Не нужно физического принуждения, достаточно фиктивных знаков, чтобы заставить его дрожать, да еще и всем телом. Что останется от грозного полицейского, если лишить его этих знаков? Чем тогда будет обеспечена его власть? «“Как подойти к нему?” думал Ковалев. “По всему, по мундиру, по шляпе видно, что он статский советник. Чорт его знает, как это сделать!”» [3; 55] – мундира и шляпы необходимо и достаточно, чтобы Нос стал статским советником, и чтобы собственный его хозяин страшился заговорить с ним.
Все это псевдо-символы, они ничего не значат или, можно сказать, значат лишь самих себя, они сами по себе завораживают, обезоруживают, калечат подчинившихся им людей [12] В «Шинели» читаем о судьбе «значительного лица»: «Получивши генеральский чин, он как-то спутался, бился с пути и совершенно не знал, как ему быть. Если ему случалось быть с ровными себе, он был еще человек как следует, человек очень порядочный, во многих отношениях даже не глупый человек; но как только случалось ему быть в обществе, где были люди хоть одним чином пониже его, там он был просто хоть из рук вон» [3; 165].
. Нереализованный замысел комедии «Владимир третьей степени», в которой чиновник лишался рассудка, воображая себя владимирским орденом, знаменовал бы у Гоголя окончательное порабощение человеческого существа смехотворной пустышкой. Нестранно, что соответствующие пассажи мы находим и у Паскаля [13] Ср. знаменитый отрывок: «Наши судейские отлично поняли эту тайну. Их алые мантии, горностай, в котором они похожи на пушистых котов, дворцы, где они вершат суд, королевские гербы – все это торжественное великолепие совершенно необходимо; и если бы врачи лишились своих мантий и туфель, если бы ученые не имели квадратных шапочек и широчайших рукавов, – они бы ни за что не сумели заморочить весь честной народ, беззащитный перед таким удивительным зрелищем… Мы не можем просто смотреть на адвоката в мантии и квадратной шапочке и не составить себе при этом благоприятного мнения о его познаниях» (Паскаль Б. Мысли. Афоризмы – М.: АСТ: Астрель, 2011. С. 65–66.).
.
Магия титулов и орденов, воротников, мантий и шпаг ничуть не менее загадочна и ничуть не менее страшна, чем магия панночки и черта.
2. Проблема реальности мифа и мифотворчество Гоголя
Уже сейчас мы можем зафиксировать ряд важнейших особенностей творчества Гоголя, определяющих его как мифологию. Одна из ключевых черт мифа, как пишет Э. Кассирер, состоит в том, что миф не знает, не признает того фундаментального противопоставления истины и иллюзии, действительности и кажимости, с провозглашения которого начинается философия [14] См. Кассирер Э. Философия символических форм. Т. II: Мифологическое мышление – М.: Академический Проект. 2011. С. 50–51.
. Правда, А. Ф. Лосев корректирует это суждение, уточняя, что мифология не различает истину и заблуждение в научном и философском смысле этих слов, но весьма требовательна в различении правды и лжи в собственно мифологическим смысле, в области самих мифологических представлений [15] См. Лосев А. Ф. Диалектика мифа. – М.: Мысль. 2001. С. 55.
.
Однако нам здесь особенно важно то, что миф знает лишь один план бытия, один уровень реальности: все, о чем в нем вообще может идти речь, в равной степени налично и существует в принципиально одних и тех же формах, а именно – формах чувственно-конкретных и телесных. Именно таков «кажущийся», «как бы не существующий» мир Гоголя: все в нем обманчиво и фиктивно, и в то же время все, до мельчайших деталей и пустяков, существенно, живо и реально ощутимо в конкретных, чувственных своих чертах. Мир истины здесь не противостоит миру «мнения», реален лишь один мир, за которым уже ничего нет, он реален в своем неправдоподобии.
Одной и той же реальности с равным правом принадлежат сон и явь: вспомнить хотя бы «Портрет» и «Страшную месть» («Правдив сон твой, Катерина!»), бытие живых и бытие мертвых – слова Кассирера о том, что мифу труднее принять и объяснить скорее смертность, чем продолжение жизни после смерти [16] См. Кассирер Э. Философия символических форм. Т. II: Мифологическое мышление – М.: Академический Проект. 2011. С. 68.
, вряд ли чем-то подтверждаются лучше, чем произведениями Гоголя.
Читать дальше