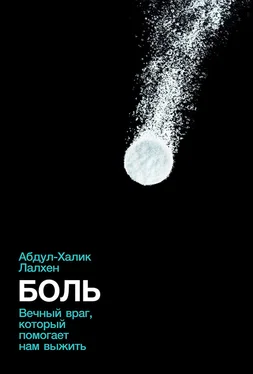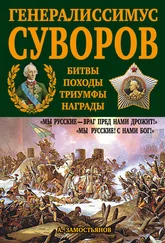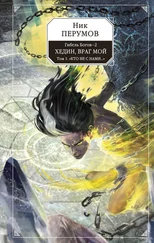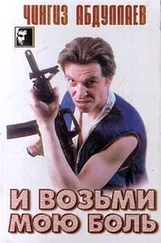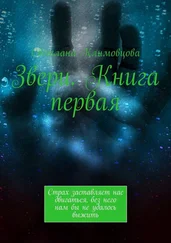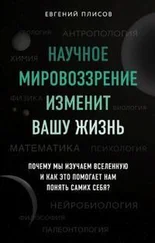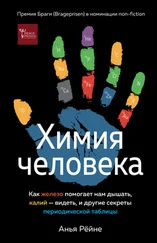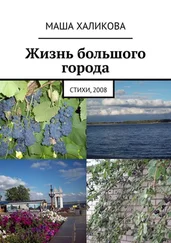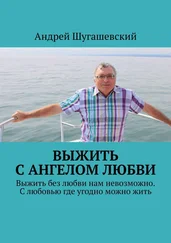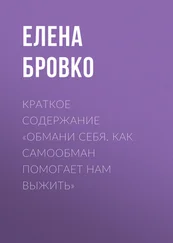Нам, людям, сложно осознать, как наше поведение и мысли влияют на нашу природу через гормоны и химические вещества – нейротрансмиттеры. Именно поэтому люди, страдающие психическими расстройствами, настолько изолируются обществом и плохо им воспринимаются, и поэтому к ним относятся совершенно иначе. В то же время мы с готовностью воспринимаем как болезнь высокое артериальное давление: оно имеет физиологическое объяснение, несмотря на то что большинство из нас не сможет рассказать, как именно это происходит в организме. Очень немногие понимают, что нормальное артериальное давление определяется объемом крови, перекачиваемой сердцем, помноженным на сопротивление сосудистого русла, в то время как ненормальное артериальное давление бывает, когда кровеносные сосуды работают неправильно. Мы не скажем человеку с высоким давлением, чтобы он успокоился или расслабил сосуды. К сожалению, пациентам, ощущающим более сильную боль, чем ту, что мы ожидаем в той или иной ситуации, или тем, у кого снижено настроение, часто говорят, чтобы они взяли себя в руки и прекратили драматизировать.
●
Депрессия и тревожность влияют на то, как человек переживает боль и жалуется на нее. Катастрофизация – это психологическая модель поведения, в рамках которой человек чрезмерно зацикливается на неприятностях, преувеличивает их и чувствует себя беспомощным перед невзгодами, а также крайне негативно воспринимает свое текущее состояние. Высокий уровень катастрофизации и сниженное вследствие этого чувство контроля – важные показатели того, что пациент будет испытывать сильную острую боль или что у него разовьется хроническая боль – это когда она длится дольше, чем «положено», с медицинской точки зрения. Катастрофизацию можно рассматривать как преувеличенно негативную модель мышления, которая оказывает влияние на испытываемую или ожидаемую боль. Когда уровень катастрофизации у пациентов зашкаливает, они испытывают более сильную физическую боль и эмоциональное потрясение. Такая аномальная модель мышления оказывает значительное биологическое воздействие на организм человека, так как может увеличивать интенсивность болевых сигналов и тем самым приведет к большей восприимчивости к боли. Это, в свою очередь, может стать причиной постоянной активации болевых рецепторов даже после заживления ран, и в конце концов боль перейдет из острой стадии в хроническую.
На вышеописанное отчасти может влиять развитие страха перед болью, когда пациенты пытаются избавиться от постоянной боли, избегая действий, которые могут ее усилить. Например, тем, кто перенес операцию или травму и у кого высокий уровень катастрофизации, может быть сложнее реабилитироваться из-за своего психологического состояния. Такие люди борются с болью, стараясь меньше двигаться. Однако этот подход может привести к развитию тромбоза глубоких вен: человек проводит все время в постели и кровь в ногах застаивается. Кроме того, когда люди не могут покашлять или глубоко вздохнуть после операции, развиваются легочные инфекции. Такие пациенты, как правило, принимают больше обезболивающих.
Одним из наиболее логичных и предсказуемых факторов риска, ведущих к усилению послеоперационной боли, является также предоперационная нервозность. Ординаторов, которые осматривают пациентов перед операцией, я всегда учу: никогда никому не говорите, что после операции у них ничего не будет болеть. Я прошу их объяснить пациенту, что если оценить боль по шкале от 0 до 10 (где 0 – отсутствие боли, а 10 – самая нестерпимая боль, которую только можно представить), то в лучшем случае после операции мы сможем уменьшить боль до 4 баллов. Когда пациенты, проснувшись от наркоза и оценив свое состояние по сигналам, доходящим до мозга, помнят о том, что ощущения, которые они испытывают, можно оценить на 4 балла из 10, это позволит им лучше переносить послеоперационную боль. А вот если мы скажем им, что потом ничего не заболит, тогда, очнувшись после наркоза, любые неприятные ощущения будут катастрофизироваться.
Я часто убеждаюсь в важности такого подхода, когда работаю с пациентами после лапаротомии – во время этой операции разрезаются все мышцы и ткани передней брюшной стенки, чтобы врач мог добраться до кишечника. Разрез часто имеет длину от 10 до 15 см и производится от верхней части лобковой кости до уровня чуть ниже грудной клетки. Для таких операций мы используем эпидуральную анестезию, и обычно это верное решение. В эпидуральное пространство, расположенное над спинным мозгом, вводится катетер, через который местный анестетик заливает спинномозговые корешки. Такой способ, как правило, обеспечивает хорошее обезболивание при обширных болезненных разрезах. Часто во время таких операций требуется, чтобы в горле пациента долгое время находилась пластиковая трубка, а в одну из шейных вен вводят катетер, соединенный с капельницей. Я часто поражаюсь, когда пациенты просыпаются после наркоза и начинают жаловаться на боль в горле от трубки – такую боль практически невозможно убрать, хотя у тех же пациентов на животе теперь красуется пятнадцатисантиметровый шов, но его они не чувствуют, потому что действует эпидуральная анестезия. Анестезиологи, занятые швами от лапаротомии и поддержанием эпидуральной анестезии, обычно забывают, что пациент воспринимает любую сенсорную информацию, которую его мозг получает после операции, даже если это мелочи по сравнению с тем, что он бы испытывал, не действуй на него эпидуральная анестезия. Вот почему врачу надо больше внимания уделять личности и переживаниям пациента, а не своим собственным переживаниям и представлениям.
Читать дальше