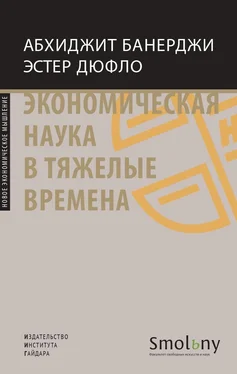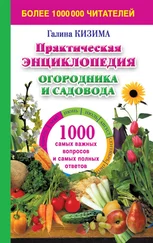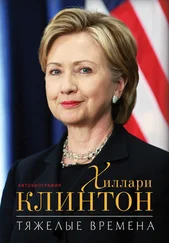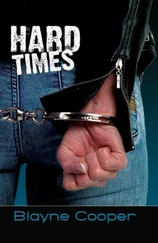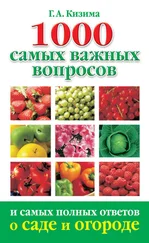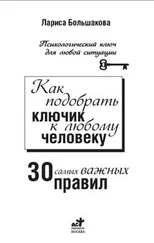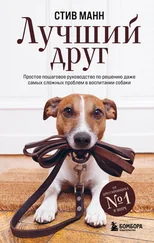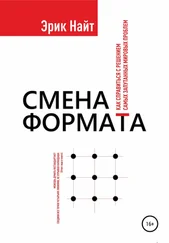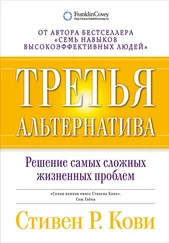В целом наши респонденты оказывались пессимистичнее профессиональных экономистов. Среди последних 40 % согласились с утверждением о том, что «наплыв беженцев в Германию, начавшийся летом 2015 года, принесет экономические выгоды Германии в последующем десятилетии», а большинство оставшихся выразили неуверенность или не дали ответа (только один не согласился) [11] “Refugees in Germany,” Chicago Booth, IGM Forum, 2017, http://www.igmchicago.org/surveys/refugees-in-germany (ответы нормируются по числу людей, которые высказывают свое мнение).
. Напротив, среди наших респондентов только четверть согласились с этим утверждением, а 35 % не согласились. Кроме того, наши респонденты гораздо чаще полагали, что развитие робототехники и искусственного интеллекта приведет к широкому распространению безработицы и гораздо реже думали, что такое развитие создаст достаточно дополнительного богатства, чтобы компенсировать потери проигравших [12] “Robots and Artificial Intelligence,” Chicago Booth, IGM Forum, 2017, http://www.igmchicago.org/surveys/robots-and-artificial-intelligence
.
Нельзя сказать, что причина такого расхождения во взглядах заключается в том, что экономисты всегда благоприятнее относятся к принципу laissez-faire [13] Laissez-faire – буквальный перевод с французского «позвольте-делать» – экономическая доктрина минимального вмешательства государства в экономику. – Прим. пер .
, чем остальной мир. В более раннем исследовании сравнивались ответы экономистов и тысячи обычных американцев на 20 одинаковых вопросов [14] Paola Sapienza and Luigi Zingales, “Economic Experts versus Average Americans,” American Economic Review 103, no. 10 (2013): 636–642, https://doi.org/10.1257/aer.103.3.636
. В результате было обнаружено, что экономисты в (гораздо) большей степени согласны с повышением федеральных налогов (за это высказалось 97,4 % экономистов и только 66 % обычных американцев). Экономисты также проявили гораздо большее доверие политике правительства после кризиса 2008 года (финансовая помощь банкам, стимулирование экономики и так далее), чем общественность в целом. С другой стороны, 67 % обычных американцев и только 39 % профессиональных экономистов согласились с той идеей, что директорам крупных компаний переплачивают. Ключевой вывод заключается в том, что, как правило, мышление академического экономиста значительно отличается от мышления среднестатистического американца. В целом по всем двадцати вопросам существует разрыв в 35 процентных пунктов между тем, сколько экономистов соглашаются с тем или иным утверждением, и тем, сколько с ним соглашаются средних американцев.
Более того, когда респондентам сообщалось, что по рассматриваемым проблемам думают выдающиеся экономисты, то это никак не влияло на их мнение. Исследователи изменили формулировку трех вопросов из тех, по которым мнение экспертов заметно отличалось от мнения обычных людей. Для одних респондентов они предпослали вопросу следующее заявление: «Почти все эксперты согласны с тем, что…», а другим просто задали вопрос. Однако в результате полученные ответы никак не различались. Например, один из этих вопросов состоял в том, способствует ли Североамериканское соглашение о свободной торговле повышению благосостояния обычного человека (на что 95 % экономистов ответили положительно). Среди тех респондентов, кто был ознакомлен с мнением экономистов, положительно на этот вопрос ответили 51 %, а среди тех, кто не был, – 46 %. Небольшая разница в лучшем случае. Отсюда можно сделать вывод, что значительная часть широкой публики перестала слушать мнение экономистов об экономике.
Мы ни на минуту не верим, что в тех случаях, когда взгляды экономистов и широкой публики различны, экономисты всегда правы. Мы, экономисты, слишком часто бываем поглощены своими моделями и методами и иногда забываем, где заканчивается наука и начинается идеология. Мы отвечаем на вопросы политики, основываясь на предположениях, которые стали для нас второй натурой, потому что они являются строительными блоками наших моделей, но это не значит, что они всегда верны. Но мы также располагаем полезными экспертными знаниями, которых нет ни у кого другого. Скромная цель этой книги заключается в том, чтобы поделиться некоторыми из этих знаний и возобновить диалог о наиболее насущных и противоречивых темах нашего времени.
Чтобы сделать это, нам необходимо понять, что подрывает доверие к экономистам. Частично ответ заключается в том, что вокруг нас слишком много плохой экономической науки. В общественных дебатах «экономистов» представляют не те, кто входит в панель IGM Booth, а совсем другие люди. Самозваные экономисты на телевидении и в прессе – главный экономист банка Х или фирмы Y – за некоторыми важными исключениями являются, в первую очередь, представителями экономических интересов своих фирм, которые часто не стесняются игнорировать значимость представляемых ими доказательств. Больше того, они обладают относительно предсказуемой склонностью к рыночному оптимизму любой ценой, и эта склонность ассоциируется широкой публикой с экономистами в целом.
Читать дальше