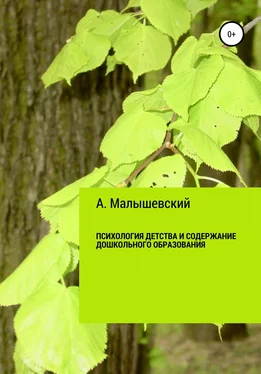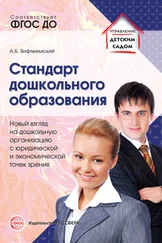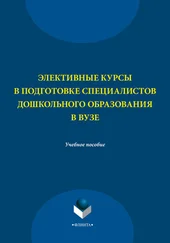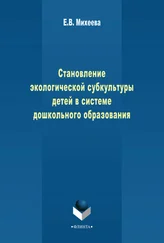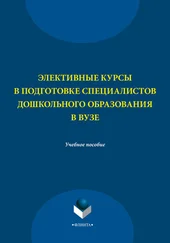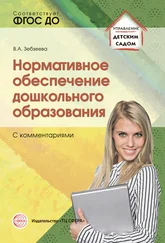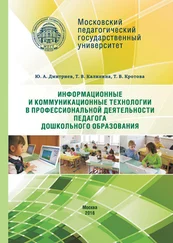Шестилетний ребенок не может посмотреть свою любимую телепередачу, потому что трое детей, пришедших в гости со своими родителями, смотрят телевизор по другой программе. «Не будь эгоистом» – говорит мама. Расстроенный, он спрашивает: «Почему для троих людей быть эгоистичными лучше, чем для одного?» Рассуждение, скрытое за вопросом, связано с утилитарной этической установкой, в соответствии с которой удовлетворение желания троих людей предпочтительнее, чем удовлетворение желания одного. Принцип максимальной удовлетворенности в данном случае подвергается принципиальному сомнению: ведь в рамках общепринятых этических представлений желание, получить что-либо за счет другого обсуждается как проявление эгоизма. Поэтому ситуация, оправданная по принципу максимальной удовлетворенности, может быть осуждена на том основании, что она приводит к максимальному поощрению эгоизма. В этой связи привлекает принципиальная, обобщенная постановка вопроса, подвергающая сомнению утилитарную этическую установку. Можно указать на сам источник противоречий утилитарной этики: ее механичность, сведение этического целого (общее благо) к простой сумме частей (индивидуальное благо) .
Ребенок того же возраста после смерти своей бабушки задумывается о жизни и смерти, размышляет об уникальности своего существования. Мысленно он перебирает все, что ему принадлежит: книги, игрушки, одежду и т. д.; кроме того, у него есть две руки, две ноги, голова. Возникает вопрос: «Какая часть меня действительно я?» Вопрос, по сути деда, ставит проблему аутентичности: чего может лишиться индивид, сохраняя при этом подлинность своего существования? Какова линия возможных размышлений: волосы, состриженные с головы нашего ребенка, более не являются частью его самого, однако что можно сказать о его руках, ногах, голове – всем его теле? Если рассматривать их как то, что принадлежит мальчику, то он выступит как нечто от них обособленное. Тогда он мог бы лишиться не только состриженных волос, но и всего тела, его аутентичность можно было бы свести к душе, которой принадлежит тело. Такое решение вопроса характерно для религиозного сознания. Однако в приведенных рассуждениях заложена известная неопределенность, связанная с употреблением грамматической конструкции принадлежности. Так, выражения: «У мальчика есть игрушка», «Игрушка мальчика» обозначают отношения принадлежности (обладания), но грамматически сходные выражения «у мальчика есть голова», «голова мальчика» обозначают отношения целого и части. Поэтому правильная постановка вопроса сводится к рассмотрению соотношения части и целого в аспекте проблем аутентичности. Сопоставим вопрос ребенка и известную логическую задачу о корабле Тезея , в котором постоянно заменяли по одной доске до тех пор, пока весь корабль не оказался выстроенным заново. Продолжим в этой связи рассматривать (конечно, в сфере чистой абстракции) вопрос о постоянной замене частей человеческого тела: в какой момент этого процесса будет утрачена аутентичность первоначального обладателя тела? В качестве возможного решения укажем на предел, за которым наступает утрата аутентичности человека, – человеческий мозг?! Однако в целом проблема аутентичности даже в данном чистом варианте ее постановки остается открытой.
«Можно ли потерять снос имя?» Нет, отвечает на этот вопрос здравый смысл и большинство из группы шести-, семилетних детей. «Но если человек забудет свое имя?» – спрашивает один из них. Можно спросить у брата, отвечает ему другой, воспроизводя при этом обычную логику здравого смысла вместе со столь характерным для нее стремлением поскорее закрыть вопрос. Но что если и брат забыл эго имя? Этот вопрос открывает область свободного оперирования, игры возможностями.
Семилетний мальчик слышит, как его брат ворчит на людей, которые поднимают шум из-за того, что встает человек рано или нет и из-за тому подобных вещей, и замечает: «Рано и поздно – это не вещи. Это не вещи вроде чашек, столов и стульев – не вощи, которые можно сделать». Замечание могло бы привести к попытке определить само свойство вещности , тем более что ребенок уже вывел одну из категорий вещей, которые можно сделать , что напоминает категорию вещественных предметов, выделенную Аристотелем.
Детские вопросы настолько существенны и глубоки, что все попытки их разрешить даже с помощью теоретических построений не дают желаемых результатов. И это при том, что подобный взгляд на мир, на явления природы, мышление и природу вещей не нуждается в специальном культивировании: все это естественные проявления ребенка. Более того, здесь можно говорить о постоянных тенденциях, устойчивых чертах детского мышления, которые вполне можно отнести к детской философии .
Читать дальше