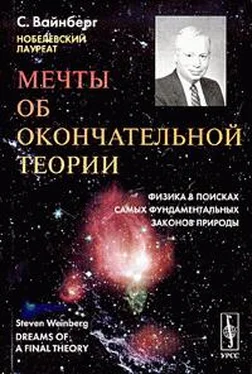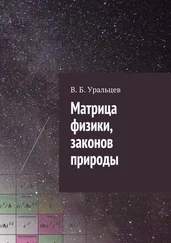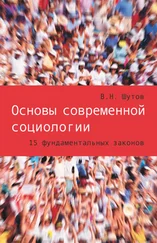Дело здесь не только в интеллектуальной лености ученых. Конечно, очень мучительно прерывать свою работу и заставлять себя выучить новую дисциплину, но, когда требуется, ученые на это способны. Что касается меня, то в разные периоды жизни я вынужден был отрывать время от своих основных занятий, чтобы выучить самые разные вещи, в которых возникала необходимость – от дифференциальной топологии до системы MS DOS. Дело все в том, что не видно, где физик может использовать знание философии, не считая тех случаев, когда изучение работ отдельных философов помогает нам избежать ошибок, совершенных другими философами.
Делая такой вывод, я должен честно признать свою ограниченность и пристрастность. Разочарование пришло после нескольких лет увлеченных занятий философией на младших курсах университета. Взгляды философов, которые я изучал, постепенно начали казаться мне расплывчатыми и непродуктивными по сравнению с поражающими воображение успехами математики и физики. С тех пор время от времени я пытался разобраться в текущей литературе по философии науки. Некоторые работы казались мне написанными на непреодолимо сложном жаргоне [128]. Единственное, что оставалось думать, что цель этих работ – произвести впечатление на тех, кто путает неясность изложения с его глубиной. Некоторые же работы были написаны прекрасно и представляли собой хорошее, даже глубокое чтение, к примеру сочинения Людвига Витгенштейна или Пола Фейерабенда. Но лишь в редчайших случаях мне казалось, что это имеет хоть какое-то отношение к тем научным занятиям, которые были мне известны [129]. Согласно Фейерабенду, понятие научного объяснения, разработанное рядом философов науки, столь узко, что невозможно говорить, что какая-то теория объясняется другой теорией [130]. Эта точка зрения оставляет мое поколение физиков, занимающихся частицами, без работы.
Читателю (особенно, если он – профессиональный философ) может показаться, что ученый вроде меня, который настолько не в ладах с философией науки, должен деликатно обходить эту тему и предоставить право судить экспертам. Я знаю, как относятся философы к любительским философским потугам ученых. Но я стремлюсь здесь изложить точку зрения не философа, а рядового специалиста, неиспорченного работающего ученого, который не видит в профессиональной философии никакой пользы. Не я один разделяю такие взгляды – мне не известен ни один ученый, сделавший заметный вклад в развитие физики в послевоенный период, работе которого существенно помогли бы труды философов. В предыдущей главе я упоминал о том, что Вигнер назвал «непостижимой эффективностью» математики. Здесь я хочу указать на другое в равной степени удивительное явление – непостижимую неэффективность философии.
Даже если в прошлом философские доктрины и оказывали какое-то полезное воздействие на ученых, влияние этих доктрин затягивалось на слишком долгое время, принося в конце концов тем больше проблем, чем дольше эти доктрины оставались в употреблении. Рассмотрим, например, почтенную доктрину механицизма, т.е. идею, что явления природы сводятся к соударениям и давлению материальных частиц или жидкостей. В древности трудно было придумать что-либо более прогрессивное. С того самого времени, как досократики Демокрит и Левкипп начали рассуждать об атомах, идея, что явления природы имеют механическую причину, противостояла популярным верованиям в богов и демонов. Эпикур, основоположник эллинизма, специально ввел в свою систему взглядов механистическое мировоззрение как противоядие против веры в богов-олимпийцев. Когда в 1630-е гг. Рене Декарт попробовал осуществить великую попытку объяснить мир в рамках рациональных понятий, он, естественно, должен был описывать физические силы вроде тяготения механистически, с помощью вихрей в материальной субстанции, заполняющей все пространство. «Механистическая философия» Декарта оказала сильное влияние на Ньютона, и не потому, что она была правильна (Декарту, по-видимому, не приходила в голову столь понятная в наши дни идея о количественной проверке теорий), а потому, что давала пример механической теории, которая может иметь смысл сама по себе, вне зависимости от согласия с природными явлениями. Механицизм достиг пика своего развития в XIX в. после блистательных объяснений химических и тепловых явлений с помощью гипотезы об атомах. Даже в наши дни многим кажется, что механицизм есть просто логическая противоположность предрассудкам. В истории человеческой мысли механистическое мировоззрение сыграло несомненно героическую роль.
Читать дальше