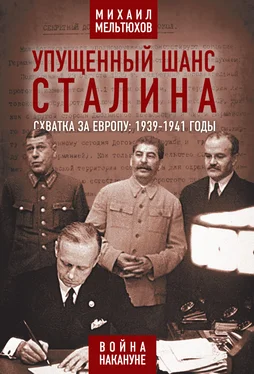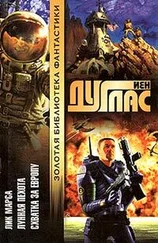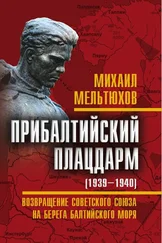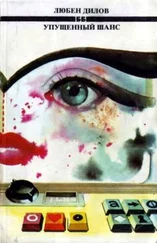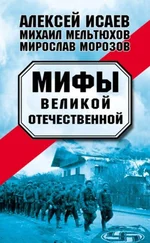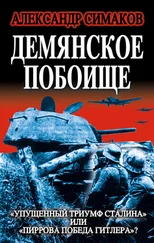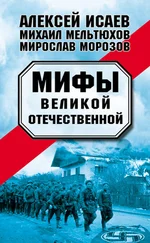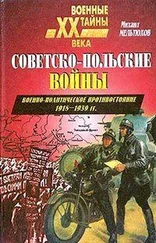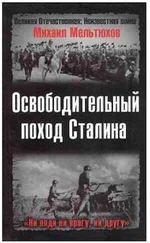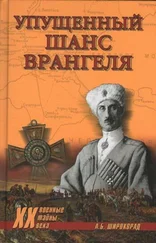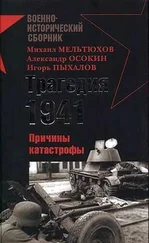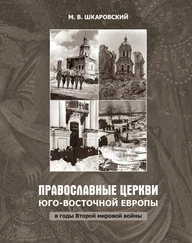Хотя межгосударственное соперничество является системообразующим фактором международных отношений, не следует воспринимать «великие державы» лишь в качестве «империалистических хищников», поскольку они выполняют также ряд важных функций – устанавливают и поддерживают мировой порядок, концентрируют ресурсы для кардинального улучшения окружающей среды и технологических прорывов. Как правило, сфера влияния «великой державы» является районом относительно спокойного и стабильного развития. То есть, «великие державы» выполняют функцию лидера, стимулирующего развитие как контролируемого ею региона, так и мира в целом.
Поскольку международная политика, как и всякая политика, есть борьба за власть, любое государство формирует свои интересы на мировой арене в соответствии со своими геополитическими параметрами, ресурсными возможностями, уровнем экономического развития, весом и местом в мировом сообществе и национально-культурными традициями. В наиболее общем виде национально‐государственные интересы любой страны представляют собой триединый комплекс фундаментальных целей:
1. Самосохранение государства;
2. Создание наиболее безопасной внешней среды и
3. Накопление мощи (экономической, политической, военной и т. п.).
Государство обеспечивает свои интересы всеми имеющимися в его распоряжении средствами: политическими, идеологическими, экономическими, дипломатическими и военными. Внешнее оформление национально‐государственных интересов во многом определяется ценностными нормами и идеологией, господствующими в каждую конкретную эпоху. В формулировании национально‐государственных интересов и формировании внешнеполитической стратегии, призванной их реализовать, важное значение имеет система ценностных ориентиров, установок, принципов и убеждений государственных деятелей – восприятие ими окружающего мира и оценка места своей страны в ряду остальных государств, составляющих мировое сообщество.
Во все времена международная политика представляла собой ожесточенную борьбу за контроль над имевшимися ресурсами, которые разными способами отбирались у слабого соседа. Не стал исключением и XX век, в самом начале которого разразилась очередная схватка «великих держав» за новый передел мира и его ресурсов. К сожалению, среди победителей в Первой мировой войне не оказалось Российской империи, которая в силу ряда внутренних и внешних причин переживала острый кризис (Революция и Гражданская война), что привело к ее ослаблению и снижению ее статуса на мировой арене до роли региональной державы. Хотя большевики активно способствовали развалу Российской империи, они смогли создать на ее обломках новое крупное государство – Советский Союз – перед которым стоял выбор: согласиться со статусом региональной державы или вновь вступить в борьбу за возвращения статуса «великой державы». Советское руководство в Москве выбрало вторую альтернативу и активно вступило на путь ее реализации. То, что все делалось под лозунгами миролюбия и усиления обороноспособности, вполне понятно – любое умное руководство старается не афишировать свои истинные намерения.
Поэтому в своем исследовании автор стремился рассматривать советскую внешнюю политику без каких-либо пропагандистских шор, а с точки зрения реальных интересов, целей и возможностей Советского Союза. При этом речь не идет об оправдании или обвинении советского руководства, как это зачастую практикуется в отечественной исторической литературе, продолжающей морализаторские традиции советской пропаганды. Автор полагает, что каждый читатель в состоянии дать собственную оценку описываемых событий кануна и начала Второй мировой войны, исходя из личных пристрастий и этических ценностей. Этот момент следует подчеркнуть, так как в подавляющем большинстве случаев в описываемых событиях действуют две и более сторон, каждая из которых стремится достичь своих целей, отстоять свои интересы. В историографии же преобладает оценочный подход, когда историк, исходя из своих собственных симпатий-антипатий, делит всех участников исторических событий на «хороших» и «плохих» («прогрессивных» и «реакционных» и т. п.), что в итоге ведет к определенному искажению исторической перспективы. Эта ситуация связана не столько со «злонамеренностью» тех или иных исследователей, сколько с идущей из глубины веков традиционно тесной взаимосвязи историографии и пропаганды, что, в свою очередь, базируется на свойственном любому человеку эмоциональном восприятии окружающего мира.
Читать дальше