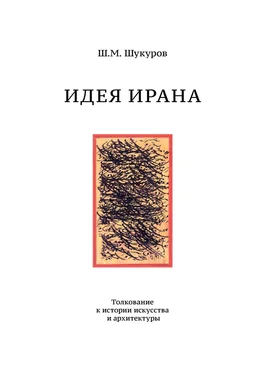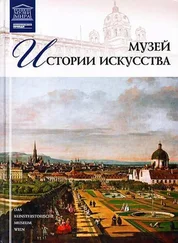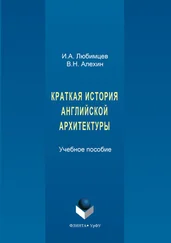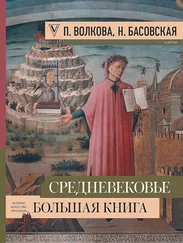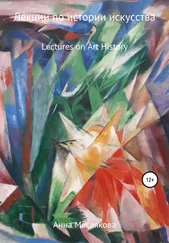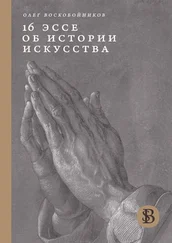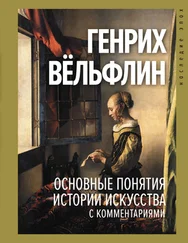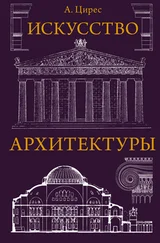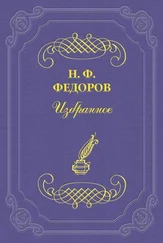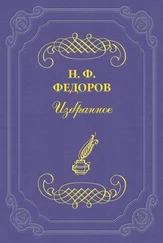Во введении было отмечено существование двух модусов визуальной риторики: первое – это то, что существует в наличии; а второе – то, чего нет, но вполне предполагается. Точка «басмалы» может быть тем, что оказывается в поле нашего зрения, и она же способна превзойти видимое значение. Точка, таким образом, способна заместить собой нечто много большее и значительное. Следовательно, такие риторические формы, как визуальные образы, могут строиться по этому же принципу – гештальтному по сути. Возможно ли завершить гештальт точки – визуального концепта? Нет, такой гештальт завершить нельзя, поскольку наша точка полисемантична. Об одном из таких значений мы расскажем ниже.
В иранской среде в творчестве Авиценны (Абу 'Али ибн Сина, 980—1037) возникает суждение о протяженности времени благодаря трансформативной силе того, что мы назовем Другим (ān) [24] Абуали ибни Сино. Осори мунтахаб. Ч. 3. Душанбе: Ирфон, 1985. С. 144–155. Кроме таджикского перевода мы пользуемся недавним паралельным англо-арабским изданием «Книги исцеления» Авиценны: The Physics of the Healing. Books 1 & 2. A parallel English-Arabic text translated, introduced, and annotated by Jon McGinnis. Provo, Utah: Brigham Young University, 2009.
. Авиценна упоминает этот термин в разделе о времени, ān собственно и есть время, мгновение времени в арабских и персидских словарях. Итак, арабское название главы звучит следующим образом: «Fī bayān amr al-ān» (Пояснения к обстоятельствам смысла слова «ān»), что в английском параллельном переводе звучит как «Explaining the instant». Согласиться полностью с переводом Мак-Гинниса, следующим за арабскими словарями, не представляется возможным по одной причине – слово «ān», как мы увидим это ниже, превосходит обычные словарные значения в арабских словарях, оно обладает не только временной, но и пространственной природой, трансформируя в одинаковой степени и пространство, и время.
Однажды Авиценна назовет явление ān в природе времени «нечто», что говорит исключительно об одном: о неопределенности этого явления для его обозначения в среде вещей, семантически определяемых довольно строго. Именно поэтому мы называем его Другим с его операциональными возможностями по отношению к существующему пространству и времени.
Прежде чем мы займемся протяженностью времени, нам следует понять, что означает арабское слово «ān» и почему мы назвали его Другим, и Другим по отношению к чему? В отличие от времени, говорит Авиценна, Другое не имеет примет существования и у него нет того, что соответствует предлогу «перед» (lā qabl lahu), а его небытие оказывается «перед его бытием». Следовательно, Другое все-таки располагает предлогом «перед, до», но этот предлог будет носить исключительно смысловую нагрузку (wa yakūn dhalika al-qabl ma'nā). Вслед за сказанным следует кардинальный вывод: перед нашим временем существует еще время, а Другой одновременно разделяет и соединяет оба временных потока.
Небезынтересным представляется пусть даже отдаленно сходное слово «anna» – в хеттском языке с очевидным временным значением прошлого, минувшего, что может говорить о процессе смыслообразования в языковой среде индоевропейцев и семитов [25] Etymological Dictionary of the Hittite Inherited Lexicon by A. Kloekhorst. Leiden: Brill, 2008. P. 173.
. Однако не просто о значении термина следует думать, много интереснее, считает Авиценна, выявить этимологическую структуру термина. Заранее следует предупредить, что, если значение термина «ān» подтверждается словарными экспликациями равно в арабских и персидских словарях, то этимологически транспарентную мотивировку слова много яснее дают толковые словари персидского языка [26] Словарь «Гийас ал-Лугат» говорит о том, что следует отличать значение слова «ān» в персидском языке от его значения в арабском (Ғиёс ал-Луғот. Ҷ. 1. Душанбе, Адиб, 1987. С. 28). Автор словаря Мухаммад Гийас ал-Дин ибн Джалал ал-Дин ибн Шараф ал-Дин Рампури жил в XIX в., словарь, тем самым, является очередным индийским толковым персидским словарем. Вот перечень толковых словарей XVII в.: шесть толковых словарей – «Фарханг-и Джахангири» Инджу Ширази, «Фарханг-и Рашиди» 'Абд ал-Рашида Таттави, «Маджма ал-фурс» Мухаммад-Касима Кашани, более известный как Сурури, «Бурхан-и Кaти'» Мухаммад-Хусайна Табризи, «Сурма-и сулаймани» Таки алДина Авхади Балйани и «Фарханг-и Джа'фари» Мухаммад-Мукима Туйсиркани (см. об этом: Гиясова Ф.Н. Способы описания форм и лексических единиц в персидско-таджикских словарях XVII века. Автореферат диссертации. Худжанд, 2006).
. Вслед за пояснением толкового персидского словаря «Гийас ал-Лугат» обратим внимание читателя на то, что арабские словари далеко не всегда дают те же значения, что словари персидские. Это различие не просто лексическое, но общекультурное, персидская лексика отражает существующее положение дел в культуре. Вслед за пояснениями предисловия напомним, что Авиценне иранский мир обязан появлением персоязычной философской и научной лексики.
Читать дальше