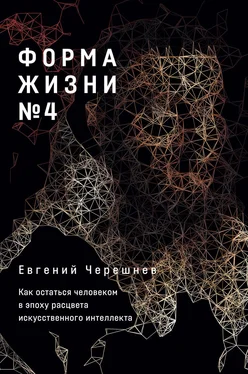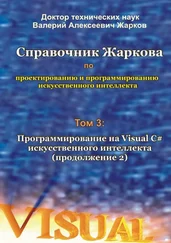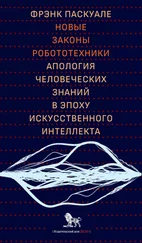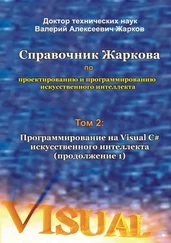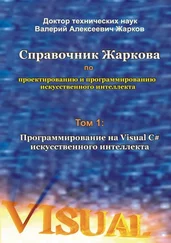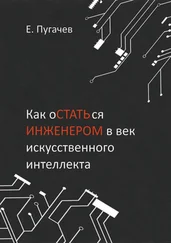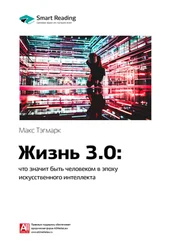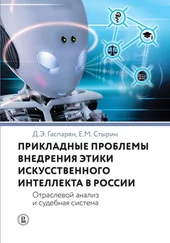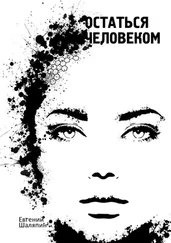С точки зрения банальной индукции…
История науки знает множество несбывшихся прогнозов и предсказаний, но пальма первенства, несомненно, принадлежит французскому философу-позитивисту Огюсту Конту, в 1835 году приведшему в качестве примера вещи, недоступной для человеческого познания, вопрос о составе звезд: «Мы никогда и никоим способом не сможем изучить их химический состав и минералогическую структуру».
При этом его предсказание базировалось на прочном, как казалось, философском фундаменте: «Истинная наука, далеко не способная образоваться из простых наблюдений, стремится всегда по возможности избегать непосредственного исследования, заменяя последнее рациональным предвидением, составляющим во всех отношениях главную характерную черту положительной философии. Такое предвидение, необходимо вытекающее из постоянных отношений, открытых между явлениями, не позволит никогда смешивать реальную науку с той бесполезной эрудицией, которая механически накапливает факты, не стремясь выводить одни из других… Истинное положительное мышление заключается преимущественно в способности видеть, чтобы предвидеть, изучать то, что есть, и отсюда заключать о том, что должно произойти согласно общему положению о неизменности естественных законов» [10] Конт О. Дух позитивной философии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2003.
.
Злая ирония заключалась в том, что все «простые наблюдения», способные дать ключ к определению химического состава звезд, на тот момент были уже сделаны. В 1814 году баварский оптик Йозеф Фраунгофер, бившийся над задачей точного определения коэффициента преломления различных сортов стекол для разных длин световых волн, сконструировал спектроскоп, в котором свет, проходивший сквозь призму, разлагался в многоцветный спектр, и обнаружил, что в спектре излучения Солнца есть темные линии (их еще в 1802 году наблюдал английский физик Уильям Волластон, но решил, что это естественные контуры, обрамляющие цветные линии). В ходе исследований он выделил и описал в солнечном спектре 576 темных линий. Это диктовалось чисто практическими соображениями, ведь, изготавливая призмы спектроскопа из разных сортов стекла и замеряя расстояния между зафиксированными темными линиями, можно было определить показатель преломления для стекла для любой области спектра. Но Фраунгофер попутно обнаружил, что спектры других звезд, в частности Сириуса, обладают различным набором темных линий и что особенно четкая двойная темная линия солнечного спектра находится точно там же, где и яркая желтая двойная линия в спектре пламени масляной лампы. Следующий факт в копилку «бесполезной эрудиции» положил один из изобретателей фотографии Уильям Тальбот, в 1826 году обнаруживший, что при внесении в пламя солей различных металлов они дают различающиеся картины спектров.
Но лишь в 1859 году создатели спектрального анализа Роберт Бунзен и Густав Кирхгоф обнаружили, что каждый химический элемент не только испускает свет определенных спектральных частот, но и поглощает свет тех же длин волн от источника излучения, разогретого до более высоких температур. Загадка темных линий разрешилась – они появляются в результате поглощения части спектра веществом в поверхностных слоях Солнца, а обнаруженная Фраунгофером характерная двойная темная линия принадлежит натрию. Определение химического состава звезд было уже, как говорится, делом техники.
Эта история наглядно демонстрирует ограниченность индуктивного мышления, на которое опирался Конт в своих «рациональных предвидениях». Оно оперирует неким набором фактов (в случае предсказания Конта довольно произвольным и неполным), и результат определяется полнотой исходных данных. Искусственный интеллект в некотором роде индуктивная машина, результаты работы которой зависят от того, что называется big data, – данных на входе.
Глава 4
Мозг человека, искусственный интеллект и данные
Мозг человека, то есть хранилище «софта» для формы жизни № 2, возможно, самое сложное создание Вселенной: в голове каждого из нас около 86 млрд нейронов. Нейрон (сильно упрощенно, конечно) может быть или включен, или выключен. То есть даже при таком подходе минимальное количество состояний нейронной сети нашего мозга – это 2 в степени 86 млрд. Но, во-первых, один нейрон может быть связан с множеством других (а не одним) – для этого у каждого нейрона есть до 7000 синапсов (контактов), во-вторых, сила связей между двумя и более нейронами влияет на итоговое общее состояние системы. Сила связей не строго одинакова (исследователи обнаружили 26 дискретных категорий синапсов), и каждую долю секунды состояние будет меняться – нейроны всякий раз будут активироваться уникальным образом: мыслительная деятельность многомерна, и нейроны могут активироваться нелинейно и непоследовательно. Каждый биологический нейрон, по сути, представляет собой компьютер, а не просто сумматор (логическую схему), как в искусственных нейронных сетях.
Читать дальше