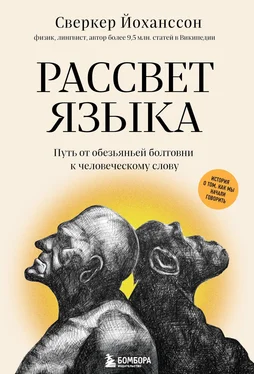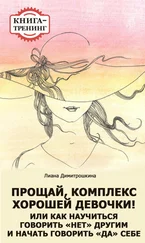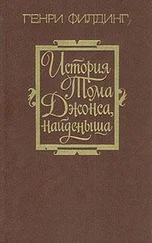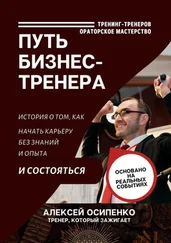Даже швейцарский политический философ Жан-Жак Руссо, более известный благодаря идее «благородного дикаря» [3] «Благородный дикарь» ( фр . Bon sauvage) – тип персонажа, популярный в литературе эпохи Просвещения. Призван иллюстрировать врожденную добродетель человека до соприкосновения с развращающей цивилизацией. – Прим. пер.
, отдал дань этой животрепещущей теме. В полемике с Кондильяком Руссо высказал мысль, что, общаясь между собой, «благородные дикари» использовали как жесты, так и звуки. Жестами они выражали смысл высказывания, а звуками – эмоции. Впоследствии ритуалы и песнопения сыграли ключевую роль в трансформации звуков и жестов в настоящий язык.
Еще один представитель того славного поколения шотландец Джеймс Бернет, лорд Монбоддо, может быть с полным правом назван лингвистом, а не просто философом, размышляющим на досуге на тему языка. Так или иначе, Монбоддо можно причислить к тем, кто заложил основы современной сравнительной и исторической лингвистики. Пытаясь проследить историю разных языков и их родство, Монбоддо не мог обойти стороной вопрос о происхождении языка как такового. Он сделал упор на социальную функцию языка и поставил во главу угла имитацию, то есть умение подражать. Интересно, что на эту и некоторые другие идеи его вдохновили наблюдения за общением орангутанов в неволе. До рождения Дарвина оставалось несколько десятилетий, и было далеко не очевидно, что происхождение языка следует связывать с эволюцией человека как биологического вида и обезьяны имеют к этому самое прямое отношение. Но Монбоддо мыслил в этом направлении, даже если эволюционные идеи и не получили у него должного оформления.
Следующим ученым XVIII века, занимавшимся проблемой происхождения языка, был Иоганн Готфрид Гердер, которого принято называть немецким философом, хотя Германии как таковой в то время не существовало [4] В это период Германия еще входила в состав и была ядром Священной Римской империи германской нации (962–1806) – надгосударственного союза итальянских, немецких, франкских и западнославянских государств и народов. – Прим. ред.
и родной город Гердера Моронг находился в Польше. Будучи дружен с Гёте, Гердер внес свой вклад в укрепление национального самосознания немцев, но в политике был скорее радикалом, чем консерватором, и поддерживал Французскую революцию.
Наиболее заметный след Гердер оставил в литературоведении, однако в 1772 году опубликовал целую книгу о происхождении языка. В ней он рассуждает о так называемом естественном языке – всех тех звуках, которые используют животные и люди для выражения своих чувств: криков боли, желания и так далее.
Но истоки человеческого языка Гердер видит совсем в другом. Не в «естественном языке», а в том, что отличает нас от животных и объясняет, почему у нас есть полноценный язык, а у них – только «естественный». Идеи Гердера на этот счет интересны и имеют параллели в современных теориях эволюции человека.
Всех животных, кроме человека, Гердер считал более или менее специализированными, то есть подверженными специфическим инстинктам, которые рассчитаны на добычу определенной пищи. Именно специфичность в отношении пищи ограничивает животных, но человек в этом отношении универсал. Он не раб инстинктов и способен рассуждать, ориентируясь в новых ситуациях, и находить оригинальные решения. И в этом, согласно Гедеру, ключ к проблеме языка. В нашей потребности коммуницировать за пределами того, что дано в инстинктах.
Благодаря разуму, у нас всегда есть возможность отступить на шаг и хорошенько обдумать ситуацию, вместо того чтобы идти на поводу у инстинктов. Мы можем по-своему оценить то, что видим, и создаем слова для обозначения новых переживаний. При этом Гердер наделил людей по крайней мере одним инстинктом – инстинктом наименования. Врожденным стремлением выразить словами любое впечатление.
Таким образом, философы Просвещения уделили много внимания проблеме языка, при этом их идеи по большей части оставались чистыми спекуляциями, то есть более или менее фантастическими сценариями на тему, как мог возникнуть язык, без ощутимой опоры на знания о том, как язык функционирует, или о происхождении самого человечества. И в этом нет ничего удивительного, ведь в XVIII веке об этом практически ничего не было известно. Поэтому тому, кто решил заняться проблемой происхождения языка, оставалось лишь строить догадки.
Только в XIX веке лингвистика – наука о языке – стала самостоятельной отраслью знания и требования к содержанию научных трудов и обоснованию идей вышли на другой уровень. Досужие фантазии больше не приветствовались. Но происхождение языка в качестве предмета научного исследования успело снискать себе дурную славу. Настолько дурную, что работы на эту тему в 1866 году были запрещены Парижским лингвистическим обществом.
Читать дальше