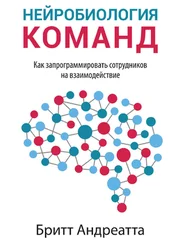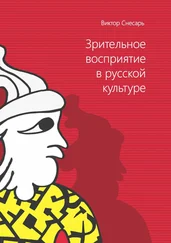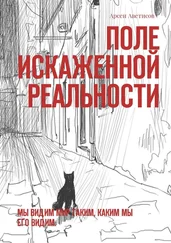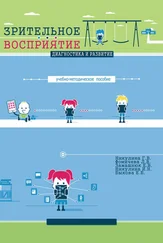С одной стороны, она непосредственно связана со зрительным восприятием: как работает глаз, как он подает сигнал в мозг. Но не только. Здесь играют роль куда более сложные феномены, такие как мышление, память, природа сознания. Сегодня мы более-менее представляем себе, как работает наша сенсорная система. Мы научились регистрировать прохождение электрических сигналов по чувствительным проводящим путям. Научились стимулировать нейроны, что позволяет нам все больше узнавать об их работе и функциях. Мы многое узнали о том, как обрабатываются сенсорные сигналы в головном мозге и как они передаются между различными его отделами. Таким образом, у нас появились надежные базовые знания, опираясь на которые мы можем двигаться дальше по пути, на котором мы только-только начинаем делать первые шаги, – по пути к пониманию того, как мыслит наш мозг. И изучение феномена нашего зрения обещает по крайней мере частично приподнять завесу над великими тайнами.
Груши – не скрипки,
Не обнаженные тела, не бутыли.
Они ни на что не похожи.
Они – желтые формы,
Сотворенные из изгибов,
Бочковатые книзу,
Чуть тронутые красным.
УОЛЛЕС СТИВЕНС
Взгляните на эти три лица. Хотя фотографии несколько размыты и неконтрастны, вы легко можете распознать, кто на них изображен: справа – женщина (у нее более округлое лицо); в центре – мальчик (у него явно мужской подбородок). Будь они вашими сыном или дочерью, братом или матерью, другом или подругой или любым другим близким человеком, вы бы узнали их в любом виде и в любой ситуации, в профиль и анфас, при ярком свете и в сумерках, вблизи и издалека, радостными, грустными, смеющимися или молчаливыми.
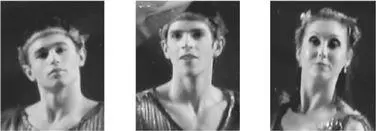
Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как вы это делаете? Каждый раз на вашу сетчатку падают фактически разные изображения. Ваш мозг приспосабливается к каждому изображению – крупному либо мелкому, яркому либо тусклому, с улыбкой или нахмуренными бровями. Число различных версий лица – как физического раздражителя, воспринимаемого вашей сетчаткой, – практически бесконечно. Однако же мы узнаем знакомые лица мгновенно и без усилий. И мы способны различать не три лица, а сотни и тысячи. Каким же образом нашему мозгу, который, по сути, является всего лишь природным аппаратом, как и все остальное в нашем теле, удается так хорошо справляться с этой задачей?
Давайте начнем с более простого примера. Представьте, что вам нужно разработать компьютерную программу, способную распознавать букву А. Современные компьютеры справляются с этим легко, не так ли? Но это всего лишь видимость – компьютеры нас обманывают (через пару абзацев я объясню, почему так говорю).
Решение кажется очевидным: в компьютере (или в мозге) должен иметься шаблон или образец буквы А. Компьютер (или мозг) сравнивает распознаваемую букву с образцом буквы Аи делает вывод об их сходстве или различии. Но что, если размер распознаваемой Аотличается от размера шаблонной А? Их сопоставление покажет, что это разные буквы.
Хорошо, значит, в компьютерную программу необходимо включить все множество шаблонов буквы Аразного размера:

Окей, проблема с несхожими размерами решена. Но предположим, что распознаваемая буква Анемного наклонена влево:  Накренившаяся буква снова не будет совпадать ни с одним из имеющихся шаблонов.
Накренившаяся буква снова не будет совпадать ни с одним из имеющихся шаблонов.
Чтобы решить эту проблему, мы включаем в программу набор шаблонов буквы Авсех возможных размеров со всеми возможными углами наклона. Если компьютер достаточно мощный, эта программа может работать достаточно быстро. Но как насчет остальных параметров, таких как толщина линии, цвет, шрифт и т. д.? Мало того: число комбинаций, которые в итоге нужно проверить компьютеру, – все возможные размеры, умноженные на все возможные углы наклона, умноженные на все возможные свойства шрифта, умноженные на все возможные цвета, и т. д. Это количество становится очень большим, слишком большим с практической точки зрения. И вся морока ради того, чтобы распознать одну-единственную букву!
Читать дальше
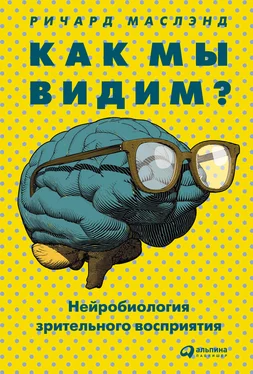
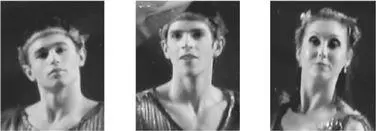

 Накренившаяся буква снова не будет совпадать ни с одним из имеющихся шаблонов.
Накренившаяся буква снова не будет совпадать ни с одним из имеющихся шаблонов.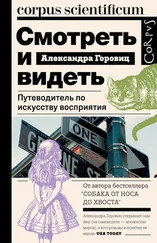
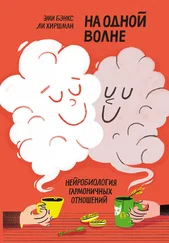
![Вячеслав Демидов - Как мы видим то, что видим [издание 3-е , перераб. и доп.]](/books/122443/vyacheslav-demidov-kak-my-vidim-to-chto-vidim-izdanie-3-e-pererab-i-dop-thumb.webp)
![Бритт Андреатта - Нейробиология перемен [Почему наш мозг сопротивляется всему новому и как его настроить на успех]](/books/395732/britt-andreatta-nejrobiologiya-peremen-pochemu-nash-thumb.webp)
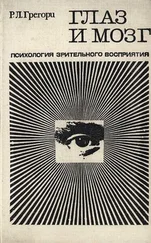
![Роб Десалл - Чувства - Нейробиология сенсорного восприятия [litres]](/books/436195/rob-desall-chuvstva-nejrobiologiya-sensornogo-vospr-thumb.webp)