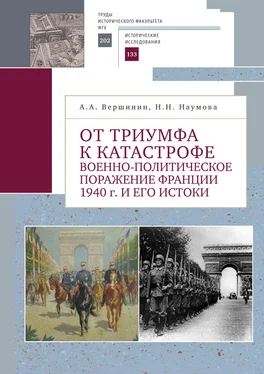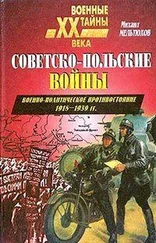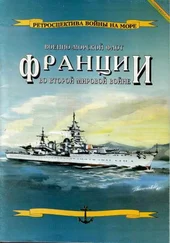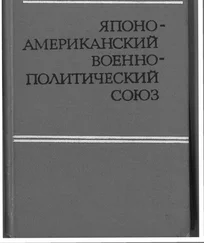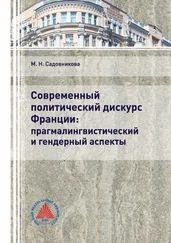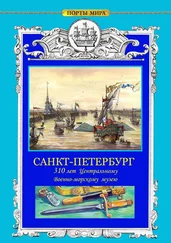Военные были дезориентированы. В стране не существовало того института, который формулировал бы единый взгляд вооруженных сил на цели и задачи военного планирования. «Спор вокруг близкой Петэну проблемы формирования единого командования постоянно возникал, но всегда оканчивался безрезультатно» [197] Vergez-Chaignon B. Pétain, p. 219.
, – пишет биограф маршала. Сухопутная армия, флот и обособившиеся к концу десятилетия военно-воздушные силы выдвигали различные, несогласованные между собой повестки развития, которые часто вступали в конфликт друг с другом. В 1930 г. во Франции существовало три отдельных министерства, ведавших обороной и имевших собственные генеральные штабы, – военное, военно-морское и военно-воздушное. Каждое из них ревниво оберегало свою автономию и конкурировало с другими за ресурсы. К концу 1920-х гг. на фоне недофинансирования армии вперед вырвался флот. С 1922 г. министерство ВМФ с успехом избегало всех бюджетных сокращений и смогло сконцентрироваться на строительстве современных кораблей и подводных лодок [198] Wieviorka O. Démobilisation, effondrement, renaissance, p. 339.
. В результате создания профильного министерства в 1928 г. армия и флот лишились собственных военно-воздушных сил, и если ВМФ в 1932 г. добился передачи ему контроля над морской авиацией, то армия на годы вперед оказалась в ситуации, при которой она не могла непосредственно влиять на развитие рода войск, чье значение для сухопутной войны становилось все более очевидным.
Внутри военного министерства и командования сухопутных сил также не было единства. Полномочия и ответственность распылялись между множеством ведомств. Ж. Дуаз и М. Вайс приводят пример: «Управления родов войск зависят непосредственно от министра и, таким образом, не подчинены начальнику Генерального штаба. Поэтому власть генерального секретаря министерства, изначально распространявшаяся на финансовые и правовые вопросы, постоянно увеличивается и “подменяет собой работу Генерального штаба”» [199] Doise J., Vaïsse M. Diplomatie et outil militaire, p. 346.
. В воздухе повисал ключевой вопрос: «Кому Республика доверяет командовать своей армией?» [200] Guelton F. Les hautes instances de la Défense nationale sous la Troisième république // O. Forcade, E. Duhamel, P. Vial (ed.). Militaires en république, 1870–1962, p. 59.
. Заместитель председателя Высшего военного совета, де-юре главнокомандующий, назначался военным министром, однако в непосредственном ведении министра находился и прямой подчиненный главнокомандующего, начальник Генштаба сухопутных сил.
Подобная ситуация порождала конкуренцию между двумя ключевыми фигурами в армейском командовании и размывала ответственность, что было объяснимо в условиях начала XX в., когда политики после «дела Дрейфуса» сомневались в лояльности вооруженных сил, но утратила всякий смысл после войны. В 1920-е гг. стабилизирующим фактором являлась сама фигура Петэна, обладавшего беспрекословным авторитетом и в 1922 г. занявшего вновь введенный пост главного инспектора армии, дополнительно усиливший его аппаратный вес. Начальники Генштаба генералы Бюа и Дебене служили под командованием маршала в годы Первой мировой войны. Это позволило главнокомандующему сконцентрировать в своих руках все нити руководства сухопутными силами [201] Nobécourt J. Une histoire politique de l’armée. Vol. 1: De Pétain à Pétain, 1919–1942. Paris, 1967, p. 183–184.
. Однако положение дел неизбежно должно было поменяться после его отставки.
Центральный орган взаимодействия между военными и гражданскими властями, Высший совет национальной обороны (ВСНО) во главе с председателем правительства, не справлялся с функцией координации работы различных ведомств, отвечающих за подготовку к войне. Непрерывная бюрократизация привела к тому, что к 1929 г. в состав ВСНО входили все министры, имевшие решающий голос, и лишь трое военных с консультативным голосом – заместитель председателя Высшего военного совета и начальники генеральных штабов армии и флота. Сложилась ситуация, при которой орган окончательно превратился в «подобие парламента ведомств, отражающих все центробежные стремления» [202] Свечин А. А. Стратегия. М., 1926, с. 158.
.
В итоге, система военно-гражданского взаимодействия, существовавшая в 1920-х гг. во Франции, не способствовала такой расстановке приоритетов государственного развития, при которой неизбежный в будущем вызов со стороны незамиренной Германии оказывался бы во главе угла. В ее рамках не происходило объединения задач обороны и императивов внутреннего развития в цельную стратегию, реализация которой имела бы первостепенную значимость. Имело место, скорее, обратное: через эти каналы в высшую армейскую среду проникали политические импульсы, транслируемые различными партиями, поочередно и во все более противоречивых комбинациях стоявшими у руля страны. Как следствие, не только у государственных деятелей, но и у военных происходило размывание представления о магистральных целях, первоочередных и второстепенных задачах, сопутствующих им издержках. Это не могло не сказываться на общем облике армии.
Читать дальше