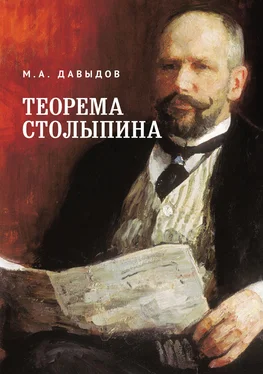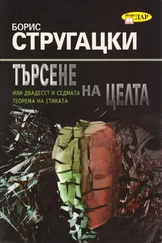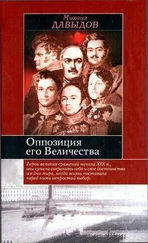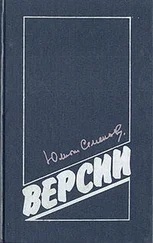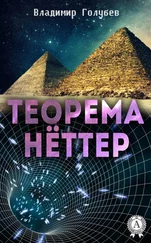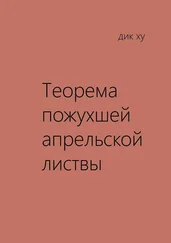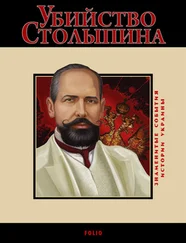Служба начиналась с 15-ти лет, когда «недоросль» становился «новиком», и была пожизненной. У тех, кто уклонялся от службы, землю отбирали и пускали в раздачу. Те, кто не являлся на службу (их звали «нетчиками», потому что в списке против их имени ставилась помета «нет»), подвергались наказанию батогами и/или лишались поместья.
Помещик владел поместьем, пока нес службу в армии. Если у него не было взрослого сына, который мог бы принять на себя обязательства отца, то земля уходила в казну и перераспределяться. Поместье не должно было выходить из «службы».
Вместе с тем естественное желание дворян людей закрепить землю за своей семьей было очень сильным, поэтому – если была такая возможность – служебные обязанности де-факто могли перелагаться на зятьев и родственников. Как говаривал С. Ю. Витте, «это слишком по-человечески».
Итак, служилые люди по отечеству, т. е. помещики, были крепостными государства, и это постепенно привело к закрепощению значительной части крестьян, поскольку только они могли стабильно обеспечивать потребности солдат-дворян и их семей.
Важно понимать, что создание поместной системы было вызвано объективными причинами, а не было только плодом, скажем, скверного характера Ивана III и его потомков.
Дело в том, что Россия того времени – отрезанная от морей бедная страна с огромной территорией, редким населением и слабой торговлей, не имеющая никаких залежей цветных металлов и вынужденная веками ввозить не только медь, свинец и олово, но и серебро. Власть не имела возможности платить армии полноценного жалованья, как это было в куда более богатых странах Запада.
Поэтому поместье стало своего рода натуральной платой за военную службу. Однако эту специфичную зарплату требовалось еще и материализовать – превратить в еду, дом, одежду, вооружение и т. д.
Сделать это могли прежде всего крестьяне (хотя на Руси пахали и дворяне), однако они еще были свободными. Судебник 1497 г. лишь официально распространил на всю страну уже существовавшую норму о возможности ухода от помещиков в течение плюс-минус недели от Юрьева дня осеннего (26 ноября ст. стиля) с уплатой 1 рубля пожилого землевладельцу. Судебник 1550 г. повторил ее, увеличив пожилое до 1,5 рублей.
Забегая вперед, отмечу, что Иван III, несомненно, закрепостил бы крестьян, имей он такую возможность. И хотя, сломав многовековую историю Руси и судьбы десятков тысяч людей, он деломпоказал подданным, «кто тут хозяин», прикрепить земледельцев к поместьям ему было не по силам.
Сделать это власть смогла лишь в 1590-х гг., когда население было обессилено безумным правлением Ивана Грозного – более чем 30-летние беспрерывные войны и ужасы опричного террора привели к тому, что в науке называется «хозяйственным разорением и запустением русских земель 1570-1580-х гг.».
Слова Чичерина о том, что «самые отношения государя к подданным сложились под монгольским влиянием…это были отношения господина к холопам», хорошо иллюстрируются известным сообщением посланника Священной Римской империи Сигизмунда фон Герберштейна о Василии III: «Властью, которую он применяет по отношению к своим подданным, он легко превосходит всех монархов всего мира… Всех одинаково гнетёт он жестоким рабством… Он применяет свою власть к духовным так же, как и к мирянам, распоряжаясь беспрепятственно и по своей воле жизнью и имуществом всех; из советников, которых он имеет, ни один не пользуется таким значением, чтобы осмелиться разногласить с ним или дать ему отпор в каком-нибудь деле. Они открыто заявляют, что воля государя есть воля Божья и что ни сделает государь, он делает по волей Божией… Равным образом, если кто-нибудь спрашивает о каком-нибудь деле неверном и сомнительном, то в общем обычно получает ответ: «Про то ведает Бог да великий государь» 11.
Иван Грозный довел эти тенденции до немыслимых для христианской страны той эпохи пределов.
Он не просто в корне изменил традиционные нормы отношений между государем и элитой, он не гнушался лично участвовать в пытках и убивать своих бояр, не говоря о простолюдинах. Реально его правление продемонстрировало, что произвол власти может не иметь границ – как Космос (оставляя в стороне вопрос о том, насколько люди XVI в. мыслили в таких категориях).
Опричнина и ее продолжение после 1572 г. ясно показали, что никто в стране – включая царского сына – не защищен от самой жестокой смертной расправы.
Трудно сомневаться в том, что опричнина задала, если так можно выразиться, определенный стандарт государственного бесчеловечия, не говоря о стандарте ужаса.
Читать дальше