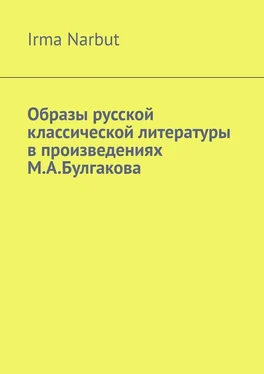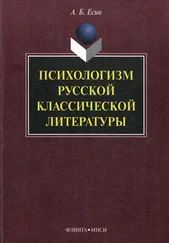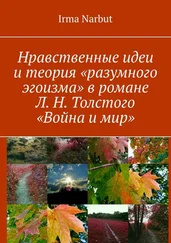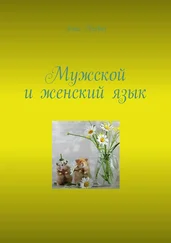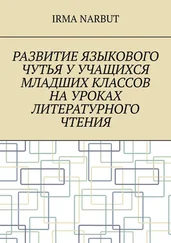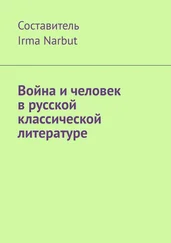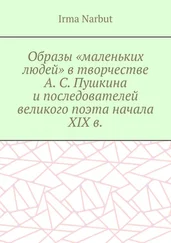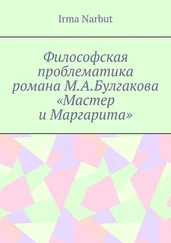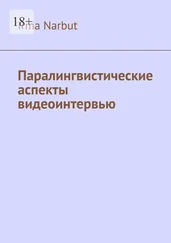). Творческие поиски Достоевского и Булгакова, страстно вглядывавшихся, говоря словами В. Н. Майкова, «в сокровенную машинацию человеческих чувств, мыслей и дел» [19,4], не были поняты и приняты многими современными им литераторами, ограниченными определенными стереотипами и традициями. И тот и другой авторы переживали жизненные и творческие трагедии и возрождались вновь к писанию, жизни. В. Крапоткин в монографии «Ф.М.Достоевский» писал: «Достоевский обладал способностью как бы прямого видения чужой психики. Он заглядывал в чужую душу, как бы вооруженный оптическим стеклом, позволявшим ему улавливать самые тонкие нюансы, следить за самыми незаметными переливами и переходами внутренней жизни человека. Достоевский, как бы минуя внешние преграды, непосредственно наблюдает психологические процессы, совершающиеся в человеке, и фиксирует их на бумаге… В даре Достоевского видеть чужую психику, чужую „душу“ не было ничего априорного. Он принял только исключительные размеры, но опирался он и на интроспекцию, и на наблюдение за другими людьми, и на прилежное изучение человека по произведениям русской и мировой литературы, то есть он опирался на внутренний и внешний опыт и имел поэтому объективное значение» [14,54]. О булгаковских образах можно сказать, что они были филигранно выписаны, а души их гротескно, но «прямо» увидены автором. Булгаков также умел «видеть» человеческую душу и человеческую психику. Психологизм Булгакова – это особый художественный метод проникновения в объективную суть противоречивого людского коллектива, в самую сердцевину тревоживших писателя общественных отношений и особый художественный метод их воспроизведения в искусстве слова. Достоевский и Булгаков мыслили психологически разработанными, полифоническими образами. История каждой индивидуальной «души» дана у Достоевского и Булгакова не изолированно, а вместе с описанием психологических переживаний многих других индивидуальностей. Ведется ли повествование у Достоевского и Булгакова от первого лица, в форме исповеди (Девушкин, Бездомный) или от лица рассказчика-автора – все равно мы видим, что писатели исходят из предпосылки равноправия одновременно существующих переживающих людей. Миры образов Достоевского и Булгакова – это миры множества объективно существующих и взаимодействующих друг с другом образов. В центре творчества Ф.М.Достоевского – болезненный и острый вопрос, который явился одним из главных вопросов для всей реалистической литературы XIX века. Это – вопрос о возможных путях развития человеческой личности. Этот же вопрос в своем творчестве ставит М.А.Булгаков.
1. Проблема «индивидуалиста» в традициях русской литературы ХIХ века и творчестве М.А.Булгакова: «глядящие в Наполеоны»
В «Евгении Онегине», «Пиковой даме» А.С.Пушкин показал, что индивидуалистическая жизненная философия и мораль личности, «глядящей в Наполеоны», бесцельна и бесчеловечна.
Со времен великого поэта в русской литературе получили выражение две, на первый взгляд противоположные между собой, но в действительности взаимно связанные, дополняющие друг друга темы: тома защиты прав личности и тема критического анализа и развенчания принципов буржуазно-индивидуалистической философии и морали – морали человека, который «для себя лишь» хочет воли, как писал Ф.М.Достоевский.
Писатели начала XIX века были готовы идеализировать любой бунт человеческой личности против мира «посредственности» и «прозы». Достоевский же, живший во второй половине XIX века, в более сложной исторической обстановке, стремится подвергнуть философскому и психологическому анализу не только условия жизни внешнего мира, окружающего героя, но и его субъективные, движущие мотивы поведения.
В «Пиковой даме» Пушкин первый в русской литературе нарисовал образ молодого человека с «профилем Наполеона» и «душою Мефистофеля», молодого человека, сжигаемого тайным честолюбием и в то же время способного к холодному расчету, которые приводят его к преступлению и к духовному краху.
М.Ю.Лермонтов продолжил пушкинскую традицию, выхватив из времени «голубых мундиров» молодого человека «демонического» и «наполеонического» склада – Григория Печорина. Николай I, ознакомившись с текстом «Героя нашего времени», назвал образ Печорина вредным и пагубным для молодого поколения, ибо «невыносим» был характер героя, его поступки бесчеловечны. Однако притягивала сила индивидуальности, доселе невиданной в русской литературе…
Читать дальше