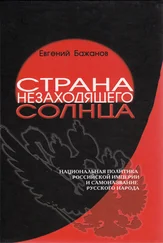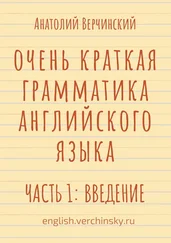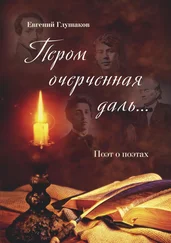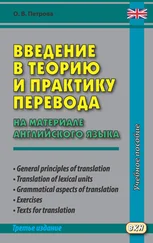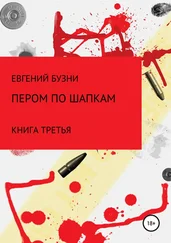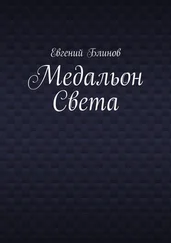Язык устойчив не только потому, что он привязан к косной массе коллектива, но и вследствие того, что он существует во времени. Эти два факта неотделимы. Связь с прошлым ежеминутно препятствует свободе выбора [23] Соссюр Ф . Курс общей лингвистики… С. 75.
.
Произвольность знака и существующая в конкретном коллективе традиция связывать «звуковое изображение» с «идеей» взаимно обуславливают друг друга и делают осознанное влияние на язык невозможным. Поэтому «единственный реальный объект лингвистики – это нормальная и регулярная жизнь уже сложившегося языка» [24] Там же. С. 73.
.
«Коллективная косность», «традиция», «связь с прошлым», отсутствие «свободы выбора» – что за старорежимные слова! Разве не об их погружении в Лету мечтал поэт, отсылая потомков к «поплавкам словарей»? Лев Якубинский, один из основателей ОПОЯЗа [25] ОПОЯЗ – Общество изучения поэтического языка или общество изучения теории поэтического языка – полуформальный кружок, созданный группой теоретиков, историков литературы, лингвистов и др., представлявших «формальную школу». Существовало в 1916–1925 годах.
, в конце 1920-х – начале 1930-х годов игравший важную роль в организации советской лингвистики, в своей программной статье разоблачал «реакционную сущность» теорий Соссюра:
Учение де Соссюра отражает идеологию наиболее реакционной части буржуазии конца XIX и начала XX вв., буржуазии, отчаявшейся доказать «недосягаемость» для массы самых различных «унаследованных» социальных установлений. Соссюр пытается доказать «недосягаемость» для массы хотя бы языка, доказать «невозможность» политики хотя бы языковой, доказать невозможность революции хотя бы в языке. Учение Соссюра является методологически неприемлемым и политически реакционным [26] Якубинский Л. П. Ф. де Соссюр о невозможности языковой политики // Ivanova I. Lev Jakubinskij, une linguistique de la parole. Limoges: Lambert Lukas, 2012. P. 210.
.
К критике Якубинского мы еще вернемся, пока же отметим связь между методом и характером политических выводов. Якубинский, впрочем, несколько недооценивал глубину традиции: представление о невозможности произвольных языковых изменений не ограничивалось современной Соссюру буржуазией. Дион Кассий в «Римской Истории» приводит ставший знаменитым исторический анекдот об императоре Тиберии, который употребил в своем эдикте отсутствующее в латыни слово и созвал консилиум грамматиков. Один из них якобы заметил: «Цезарь, ты можешь давать римское гражданство людям, но не словам» [27] Cassius Dio. Hist. Rom, 57, 17. По версии Локка, Август «признавал свое бессилие образовать новое слово». Локк Д. Опыт о человеческом разумении. М.: Мысль, 1985. Т. 1. С. 465.
. Похожее замечание много веков спустя было сделано императору Сигизмунду I, употреблявшему слово «схизма» в женском роде. На что Сигизмунд ответил знаменитой фразой Ego sum rex Romanus et supra grammaticam («Я – император Рима и выше грамматиков») [28] Цит. по: Edwards J . Sociolinguistics: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press, 2013. P. 20.
. Этот случай, впрочем, приводится в качестве примера ограниченности политической власти над языком: латинское Schisma (-atis, n) до сих пор употребляется в среднем роде. Анри Грегуар в своей апологии революционной языковой политики, вспоминая первый случай, заметит: «Римский тиран хотел ввести новое слово, но потерпел неудачу, потому что языковое законодательство всегда было демократическим. Именно эта истина будет залогом вашего успеха» [29] Грегуар А. О необходимости уничтожения патуа. См. с. 308 наст. изд.
. Если язык, что признавал Соссюр, является общественным установлением , основанным на определенных конвенциях, то почему их нельзя изменить, достигнув консенсуса? В таком случае это не вопрос признания народа сувереном, а проблема объяснения «массам» законов функционирования языка и преодоления их «косности», на что делает ставку любая революция.
Но революция не просто стремится изменить язык. Она рассматривает подобные изменения не как цель, а как средство преобразования общества. Младший современник Соссюра Лев Шестов, наблюдавший события Гражданской войны из эмиграции, в 1920 году поражался идеалистической, как ему казалось, верой большевиков в силу слова:
Россия спасет Европу – в этом убеждены все «идейные» защитники большевизма. И спасет именно потому, что в противоположность Европе она верит в магическое действие слова. Как это ни странно, но большевики, фанатически исповедующие материализм, на самом деле являются самыми наивными идеалистами. Для них реальные условия человеческой жизни не существуют. Они убеждены, что «слово» имеет сверхъестественную силу. По слову все сделается – нужно только безбоязненно и смело ввериться слову [30] Шестов Л. И. Что такое русский большевизм? // История философии. 2001. № 8. С. 99.
.
Читать дальше