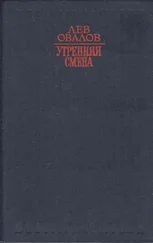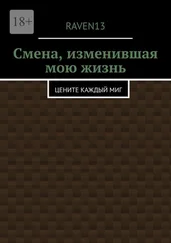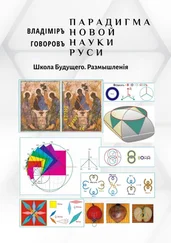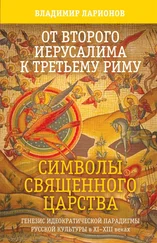1 ...6 7 8 10 11 12 ...24 Перейдем ко второму блоку. В обращении Хомского к рационалистической традиции XVII–XVIII веков можно выделить три составляющие. Первая (и наиболее важная для нас) связана с проходящими сквозь все его работы и во многом определяющими их структуру и эволюцию взглядами о том, что представляет собой подлинно научная теория. Так, он отказывается считать подлинными науками описательные дисциплины, к которым относит, например, социологию или естественную историю. Эти дисциплины, по его мнению, включают в себя массу интересных наблюдений, определенное число генерализаций, но не предлагают универсальных объяснительных принципов. Американский лингвист демонстрирует различие между подлинными и неподлинными науками, предлагая два различных понимания слова «интересное» ( interesting ). Факты и наблюдения социологии и естественной истории интересны сами по себе, как интересна новелла, например; факты физики, часто не содержа в себе ничего любопытного для стороннего наблюдателя, интересны как возможность подтвердить или опровергнуть фундаментальные теоретические предсказания (Chomsky 1998 (1977), p. 56–59, ср. р. 78–79, 179). Физика Ньютона, сводящая громадное разнообразие не имеющих, на первый взгляд, между собой ничего общего явлений (таких, как падение яблока на землю и движение планет вокруг Солнца) к одной охватывающей их закономерности (закону всемирного тяготения) воспринимается Хомским как идеальный прототип подлинно научной теории. Способность к языку, по Хомскому, является столь же универсальным свойством человека, как способность притягиваться к другим телам – свойством природных объектов, и поэтому лингвистика, если она претендует на статус подлинной науки, должна опираться на простые и универсальные закономерности, аналогичные открытым Ньютоном [32].
Еще одним фундаментальным методологическим утверждением Хомского, которое, однако, не лежит в основании его взглядов на язык, а, скорее, представляет собой универсальное обобщение этих взглядов, является представление об ограниченности теоретических моделей, которые может создавать человек, и о предопределенности возможного спектра моделей его антропологическими особенностями. Американский лингвист опирается здесь на представление Декарта о врожденных человеку идеях и на предложенное Пирсом понятие абдукции (Chomsky 2006, p. 79–80). В целом за позицией Хомского стоит вырастающее из его понимания языка представление о конструируемых человеком моделях реальности как результате неограниченного использования ограниченного набора ресурсов [33].
С данной установкой связано и предложенное Хомским противопоставление проблем ( problems ) и мистерий ( mysteries ). Под проблемами он понимает возникающие в процессе познания вопросы, которые допускают корректные и верифицируемые ответы, подтверждающиеся всем ходом развития науки (например, по каким законам тела притягиваются друг к другу); под мистериями – вопросы, ответы на которые все еще так же темны, как и много лет назад, несмотря на кипы бумаги, переведенные для их разрешения (например, проблема существования и внутренней организации иных, отличных от человеческого, типов сознания). Мистерии характеризуют ограничения человеческого познания, и в этом смысле мистерии для людей отличаются от мистерий для крыс или для условных марсиан, например [34].
Вторая и третья составляющие в обращении Хомского к рационалистической традиции XVII–XVIII веков связаны соответственно с утверждениями о врожденном характере языка и уникальности присущей людям языковой способности [35]и с непосредственным грамматическим и логическим анализом, с попытками выявления глубинных грамматических структур, предпринятыми в различных трактатах XVII–XVIII веков [36].
Если же говорить об обосновании Хомским конкретных лингвистических наблюдений, то ключевой здесь оказывается процедура интроспекции, которую мы обсудим чуть ниже.
1.3. Критика методологических установок Хомского и его ответы оппонентам
Постоянно ведущаяся полемика с разнообразными оппонентами составляет важную черту научного портрета Хомского. В разные периоды его активными критиками были Дж. Сёрль, У. Куайн, Х. Патнэм, Дж. Лакофф и М. Джонсон [37]. Важными интеллектуальными событиями 70-х стали диспуты Хомского, в частности, с Ж. Пиаже и М. Фуко [38].
Опуская критику Хомского в советский период, имеющую мало отношения к науке, среди отечественных авторов, критически анализирующих подход Хомского, можно назвать Я. Тестельца, А. Кравченко, Е. Кубрякову [39]. При этом исходный аргумент американского лингвиста в этих спорах сводился к тому, что его неправильно интерпретировали, что его теории придали существенно иной, иногда прямо противоположный ей смысл [40]. Это утверждение можно считать справедливым лишь отчасти. Во-первых, как уже отмечалось, Хомский последовательно менял свою позицию, что приводило к проблемам в интерпретации. Во-вторых, неопределенность введенных базовых категорий всегда оставляла ему возможность для маневра, и теория генеративной грамматики чем-то напоминает Протея, при необходимости резко изменяющего свой облик.
Читать дальше
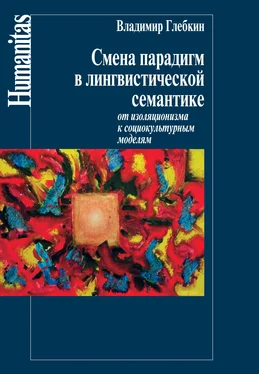
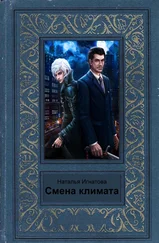

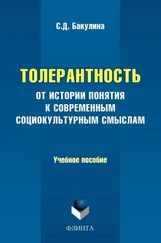



![Тим О'Райли - WTF? Гид по бизнес-моделям будущего [litres]](/books/388558/tim-o-rajli-wtf-gid-po-biznes-thumb.webp)