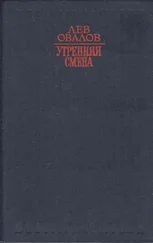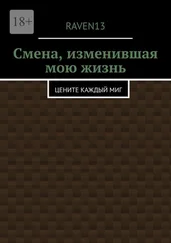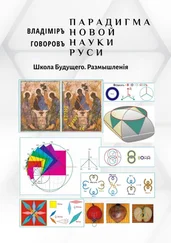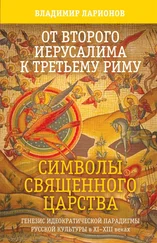Chomsky 2006, p. 100. Ср.: Chomsky 1998 (1977), p. 63; Chomsky 1998a (1975), p. 4, 161, 173; Chomsky 2000, p. 61–62, 120.
В тех редких случаях, когда Хомский ссылается на данные экспериментов, бросается в глаза явная предзаданность интерпретаций, допускающих прямо противоположные толкования. Так, он упоминает исследование Л. Глейтман (Gleitman 1990; см. также: Fisher et al. 1994), где утверждается, что, по интерпретации Хомского (и отчасти автора статьи), маленькие дети осваивают значение придуманных экспериментатором слов, опираясь на синтаксические конструкции, в которые эти слова помещаются (Chomsky 2000, p. 122). Однако при этом упускается из виду, что каждая такая конструкция сопровождается наглядной демонстрацией синтаксически заданного действия, и гораздо более убедительным в данном случае кажется утверждение, что ребенок реагирует не на универсальные синтаксические закономерности, а на конкретную ситуацию. Пожалуй, наиболее интересным из экспериментальных «доказательств» модели Хомского, кажется исследование Н. Смита и коллег, в котором они описывают некоего Кристофера, получившего в младенчестве мозговую травму и испытывающего серьезные проблемы в координации, в осуществлении повседневных бытовых действий, трудности в выполнении ряда простейших интеллектуальных тестов, но одновременно обладающего способностью переводить с 16 языков на английский (Smith, Tsimpli 1995; ср. Chomsky 2000, p. 121). Однако и в этом исследовании теоретическая рамка, в которую оно помещалось, определялась конкретной теорией (Теорией принципов и параметров), что до известной степени предопределило интерпретацию. Исследование похожих по ряду внешних характеристик психологических феноменов, в котором перед испытуемым ставятся иные вопросы и задается иная проблемная рамка, показывают, что результаты исследования могут эксплицировать психологические механизмы, весьма далекие от интерпретации Хомского. См.: Лурия 1994.
Так, например, крайне сомнительным выглядит утверждение Хомского, что, строя вопрос к фразе «The man who is tall is in the room», ребенок безошибочно произносит «Is the man who is tall in the room?» вместо «Is the man who tall is in the room?» (Chomsky 1998a (1975), p. 173–174). Сложно представить себе ребенка, который произносит подобные фразы в устной речи.
См.: Chomsky 2006, p. 152; Chomsky 1998a (1975), p. 38, 155.
См.: Chomsky 1995a, p. 3–4; Chomsky 1998 (1977), p. 78; Chomsky 2000, p. 83–84, 108–109, 166; Chomsky 2006, p. IX, 174, 180. Важно отметить, что, подчеркивая корректность проведенной параллели, Хомский настаивает на природном характере языка, принципиально не отличающем его от физических объектов, и устанавливает прямые соответствия между лингвистическими и физическими теориями, а также между «наивной лингвистикой» и «наивной физикой» (Chomsky 2000, p. 106–133).
Хомский иллюстрирует соединение в человеческом познании ограниченности и бесконечности образом целых и действительных чисел: ряд целых чисел бесконечен, но целые числа составляют ничтожную часть более обширного класса – класса действительных чисел (Chomsky 1998a (1975), p. 124).
См.: Chomsky 1998a (1975), p. 137–138; Chomsky 2000, p. 83, 107; Lycan 2003, p. 22–23; Chomsky 2003, p. 262.
См.: Хомский 2005 (1966), с. 23–28; Chomsky 2006, p. 9–12.
См.: Хомский 2005 (1966), с. 74–110; Chomsky 2006, p. 13–17. Хорошей иллюстрацией интерпретации Хомского является приведенный в его работах анализ авторами «Грамматики Пор-Рояля» высказывания «Невидимый Бог сотворил видимый мир», в котором ими выделяется уровень слов («невидимый Бог» «сотворил», «видимый мир») и уровень смыслов (суть предложения здесь сводится к трем утверждениям: «Бог невидим», «Мир является видимым», «Бог сотворил мир»).
См.: Quine 1969; Searl 1972; Putnam 1988, p. 4–7; Lakoff, Johnson 1999, p. 469–512.
См.: Lust, Foley 2004, p. 64–97; Chomsky, Foucault 2006.
См.: Тестелец 2001, с. 654–663; Кравченко 2001, с. 24–27; Кубрякова 2004, с. 33–34.
См., напр.: Chomsky 1998a (1975), p. 55–58; Chomsky 2000, p. 184–187. Замечу, что я не встретил ни одного текста, в котором Хомский явно признал бы возражения оппонентов справедливыми, согласившись с их доводами.
Cм.: Popper 1962, p. 33–39 (русский пер.: Поппер 1983, с. 240–244).
См.: Lakoff, Johnson 1999, p. 493. Здесь уместно вспомнить историю Лакатоса о ньютонианце, объяснявшем расхождение между результатами теории и данными эксперимента неучтенностью некоторых граничных условий (таких, как новая планета, например, или облако космической пыли). См.: Лакатос 1998, c. 24–28. Лакофф упоминает в данном контексте о тезисе Дюгема – Куайна, который представляет собой универсальное обобщение подобной стратегии. Как показывает Лакатос, данная стратегия иногда оказывается вполне позитивной в научном плане, защищая теорию от чрезмерного радикализма.
Читать дальше
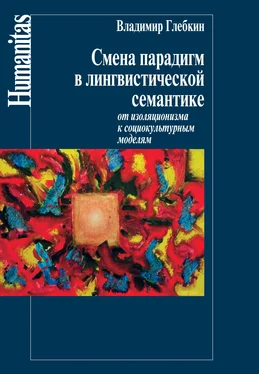
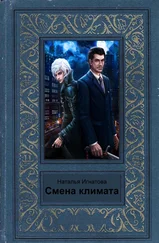

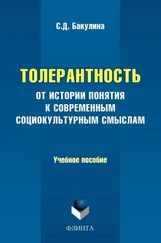



![Тим О'Райли - WTF? Гид по бизнес-моделям будущего [litres]](/books/388558/tim-o-rajli-wtf-gid-po-biznes-thumb.webp)