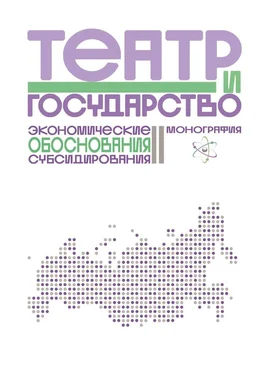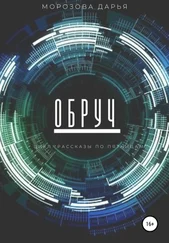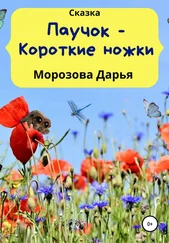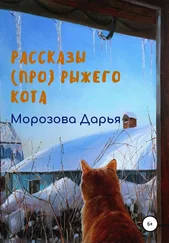Уже в конце 1990-х годов, несмотря на общую политику либерализации экономической деятельности, у бюджетных театров были закрыты и переданы в казначейство счета в коммерческих банках, где аккумулировались внебюджетные средства. В дальнейшем эти средства были включены в состав общей сметы доходов и расходов, а затем в ряде случаев учредители установили процедуру получения разрешения на их расходование [84, С. 182—183]. Либерализация экономических прав и свобод в целом привела к значительному росту количества театров в 1990-х годах, однако при этом наблюдалось значительное снижение количества посещений. Компенсирующий рост зрительского интереса к театральному искусству статистически проявился только в 2010-х годах.
Призывы к переводу культуры и искусства на самоокупаемость – не открытие нового века. В истории государства театры неоднократно подвергались испытаниям: и в годы НЭПа, и после Великой Отечественной Войны, когда их численность катастрофически сокращалась, и даже проверка в условиях рыночной экономики не внесла достаточной ясности в дискуссионные споры о степени необходимой и достаточной финансовой самостоятельности государственных театров.
Сегодня на бюджетные театры распространяется значительное количество ограничений, включая необходимость соблюдения процедур по государственным закупкам, запрет на размещение средств в коммерческих банках, казначейское обеспечение обязательств, обоснование потребностей в остатках средств субсидий по итогам финансового года. Основными факторами, определяющими стабильность субсидии (помимо общеэкономической повестки, влияющей на соответствующую статью федерального или регионального бюджета), стали, во-первых, результат, выраженный в достижении количественных показателей эффективности и, во-вторых, целевое использование бюджетных средств.
Основные нововведения 2011—2021 годов
В период 2011—2021 годов государство в лице региональных органов финансовой политики и Минфина России обозначило задачу ослабления бюджетной зависимости учреждений, декларируя необходимость сокращения нагрузки на бюджеты разных уровней. Учитывая сохраняющуюся доминирующую роль государственного финансирования культуры, в экономической политике был сделан особый акцент на эффективность учреждений сферы культуры, измеряемую в конкретных показателях. Ориентированность на результат привела к некоторой коммерциализации подхода государства к отрасли культуры и, как следствие, к ее проявлениям непосредственно в творческой деятельности театров. Ряд исследователей связывают последние тенденции в культурной политике со стремлением ассоциировать культуру и искусство с другими отраслями социальной сферы, отождествлять результаты художественной деятельности с социальными услугами по организации досуга населения. Отрасль культуры то подпадает под организационно-финансовые и управленческие механизмы социальной сферы, то исключается из нее (не без активного содействия творческого сообщества), получая шанс развиваться по своим законам. Тем не менее, многие участники культурной политики неизменно исходят из целесообразности оценки эффективности результатов и возможности детальной регламентации процесса оказания услуг в театральной деятельности. Союз театральных деятелей, Комитет по культуре Государственной Думы, Институт экономики РАН неоднократно выступали с предложениями о целесообразности вывода услуг учреждений культуры из категории государственных услуг. Данные инициативы частично были учтены в ряде законопроектов, однако результаты творческой деятельности театров по-прежнему рассматриваются в общем контексте обслуживания населения.
Основным трендом последнего десятилетия стало закрепление в нормативных правовых актах принципов эффективного управления, распространяемого на сферу культуры. Кратко остановимся на особо ярких примерах нововведений в законодательной и регуляторной политике.
В 2010—2011 годах в результате бюджетной реформы состоялся отказ от субсидиарной ответственности учредителей по финансовым обязательствам подчиненных ему учреждений. По итогам бюджетной реформы обязательства учредителей были сведены к контролю за совершением учреждениями особо крупных сделок, представляющих в перспективе некоторый риск неплатежеспособности (к крупным отнесены сделки, балансовая стоимость которых превышает 10% чистых активов). В действительности этот механизм как способ диверсификации финансовых рисков учреждений не вполне отвечает заявленной цели. Чистые активы учреждения в значительной степени зависят от объема и стоимости закрепленного за учреждением имущества. Зачастую небольшие театральные агентства, размещающиеся в арендуемых помещениях, вынуждены согласовывать практически все свои сделки, классифицируемые в качестве крупных. С другой стороны, у ведущих театров даже сделки на несколько десятков миллионов рублей (например, на покупку оборудования или реализацию больших фестивальных и гастрольных проектов) не попадают в разряд крупных с учетом стоимости имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления. Изменилось определение бюджетного учреждения, – в хозяйственный оборот были введены понятия автономных и казенных учреждений. Бюджетному учреждению было дано новое определение, как некоммерческой организации, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти или органов местного самоуправления. Следует отметить, что само определение допускает множество трактовок. Так, например, указание на тот факт, что учреждение косвенно участвует в реализации полномочий органов власти, привело к тому, что на руководителей театров стали распространяться в той же мере, как и на государственных служащих, требования антикоррупционного законодательства. Проблема стала очевидной в 2016 году, когда в нормативные правовые акты были внесены изменения [7], установившие запрет на трудовые отношения, предполагающие соподчиненность лиц, состоящих в родстве в «организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленными перед органами власти». Как выяснилось, понятие таких организаций не было точно определено. Попытка распространить эти требования на руководителей театров означала, по сути, введение ограничений на осуществление совместной трудовой деятельности «творческих династий» в учреждениях культуры, основателями которых были А. И. Райкин, О. П. Табаков, М. А. Захаров, О. Н. Ефремов, И. А. Моисеев, М. Э. Лиепа, Л. Б. Коган, Д. Ф. Ойстрах, М. В. Юровский, В. М. Запашный (см. примечание 5). Резонансные обсуждения закона стали поводом к высказыванию профессиональной общественностью и компетентными органами власти позиций, которые оказались конфронтирующими. Минюст России и Минкультуры России придерживались мнения, что, исходя из буквы закона, все учреждения выполняют задачи государственных органов и для сферы культуры необходимо предусмотреть особенности отдельной нормой. Независимая правовая экспертиза, проведенная по инициативе Минюста России частной юридической компанией, не разделила эту позицию, поддержав аргументацию творческих профессиональных сообществ. Согласно их доводам, театры, оказывая государственные услуги по созданию и показу спектаклей, не выполняют тем самым государственные функции, а, следовательно, органы управления культуры и театры реализуют разные задачи.
Читать дальше