Прямохождение создало одну уникальную черту пищеварения человека: оно у него стало частично внешним. Освободившиеся руки и умная голова позволяют богато манипулировать пищей: резать ее, тереть на терке, отбивать колотушкой, сбраживать и ферментировать сотней способов, жарить на вертеле или сковородке, варить в горшке или бизоньем желудке, тушить, запекать в земляной печи или духовке. Мы не обходимся лишь своей слюной (хотя именно от нее зависит успех приготовления кавы и чичи), как пауки, миноги или некоторые жуки. Мы поставили себе на службу бактерий и дрожжевые грибы, лимоны и даже циветт (любителям кофе “Лювак” посвящается). В свою очередь, готовка пищи увеличивает ее усвояемость и позволяет уменьшить жевательный аппарат и пищеварительный тракт, что делает человека зависимым от наружного пищеварения (истинная ода кулинарии: Рэнгем, 2012). Цепная реакция в действии. Каков апофеоз этого процесса – трубочка из баночки прямо в вену?..
Эволюция – странный процесс, в ней плюсы запросто оборачиваются минусами и наоборот. В саванне много опасностей и мало укрытий, ушами хлопать тут нельзя (впрочем, мышцы уха редуцировались заметно раньше), только вздремни – тут же окажешься в чьем-то желудке. А потому первые саванные приматы стали больше бодрствовать. Исследования показывают, что человек действительно спит заметно меньше – в среднем семь часов, – чем другие приматы, некоторые из которых умудряются проводить в объятиях Морфея до семнадцати часов (Samson et Nunn, 2015)! Кроме хищников, видеть сны мешали и недружественные соседние группы других австралопитеков, поскольку от них спрятаться на открытой местности тоже некуда. Казалось бы, синими кругами под глазами и головной болью тут не отделаешься. Но нет худа без добра. Если спать приходится меньше, то будем спать лучше, будем спать глубже! У предков человека в пять раз с 5 до 25 % – удлинилась фаза быстрого сна, наступило Время Снов. А эта фаза необходима для переработки информации, полученной мозгом во время бодрствования, в частности – перевода кратковременной памяти в долговременную, то есть усвоения знаний. Высвободившиеся же дневные часы можно занять полезным и важным, например изобретением чего-то новенького, а полученные навыки лучше усвоятся за счет новообретенного качественного сна. Удобно! К тому же можно уделить больше времени общению с сородичами и воспитанию детишек, что опять же повышает общий интеллектуальный уровень, способствует сплочению группы и снижению агрессии, а в сумме – обеспечивает выживание. Так трудности создавали человека, так закалялся разум.
Несколько миллионов лет от прямохождения до разума – мгновение в общем масштабе. Примерно 2 млн лет назад по планете ходили уже разумные существа. О предпосылках и последствиях этих событий много говорится в других частях этой книги. Здесь же помянем лишь два момента.
Человек отличается от животных развитым чувством юмора. Конечно, у животных оно тоже есть, и всюду процитирована шутка гориллы Коко, называвшей себя “хорошей птичкой”, но юмор обезьян довольно топорный, это настоящая его заря. Ясно, что происхождение и эволюция юмора – огромнейшая тема, достойная отдельной монографии, но попробуем осветить ее с одной из сторон: шутка как обман.
Когда человек шутит, он обманывает, сбивает с толку и провоцирует другого человека. Неспроста один из самых востребованных видов юмора – черный. Выдается некая тревожащая информация, адресат приходит в тонус, ведь все необычное потенциально опасно. Опасность надо на всякий случай отпугнуть, лучший способ для этого – показать свои клыки. Человек начинает ощериваться, губы растягиваются, готовые показать зубы… Но потом жертва шутки соображает, что в реальности опасности никакой нет. А коли опасности нет – так это же здорово, это же просто отлично! Это радость! Происходит разрядка напряжения. Оскал превращается в улыбку, набранный для вопля ужаса воздух судорожно вырывается из груди – человек начинает смеяться. Неспроста крик страха и смех слабо отличимы, по крайней мере в своем начале; вот продолжение у них может быть разное – протяжное в первом случае и отрывистое во втором.
Шутник же решает свои задачи. С помощью шутки очень здорово привлекать к себе внимание и, соответственно, успешно достигать поставленных целей. Например, если лектор вещает студентам полтора часа на одной ноте, то, сколь несомненно важные и нужные вещи он бы ни сообщал, студенты имеют все шансы заснуть и пропустить информацию мимо ушей. Человеку трудно долго удерживать внимание, ведь мы хоть и не легкомысленные шимпанзе, но и не хищники-засадники, способные часами сторожить мышку у норки. А вот если лектор разбавит свой монолог парой удачных шуток, это выведет слушателей из ступора, приведет их в сознание (шутка в лекции – что-то странное, неспроста это, надо прислушаться!), и цель будет достигнута. Если бы я написал классический учебник по антропологии, он был бы короче и информативнее, но шансов на прочтение у него было бы меньше, чем у популярной книжки, текст которой разбавлен всяческими хохмами.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
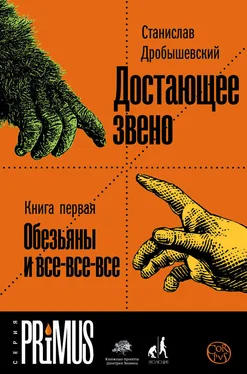







![Станислав Дробышевский - Палеонтология антрополога. Книга 1. Докембрий и палеозой [litres]](/books/404766/stanislav-drobyshevskij-paleontologiya-antropologa-thumb.webp)



