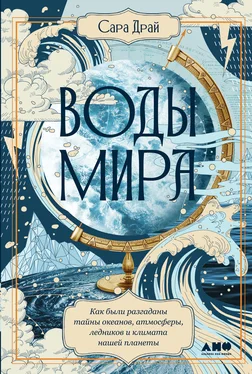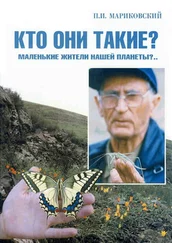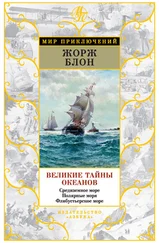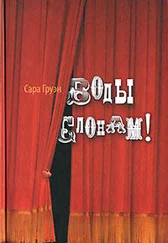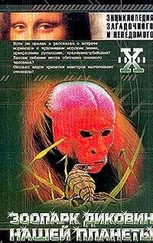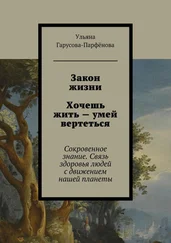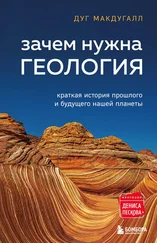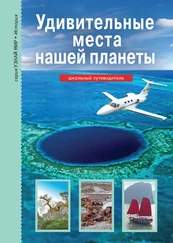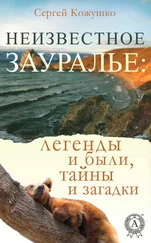Успех его экспедиции на Тенерифе зависел от неукоснительного соблюдения стандартов британской астрономической науки в условиях высокогорья в нескольких тысячах километров от Лондона. Пьяцци Смит был с лихвой наделен такими основополагающими качествами ученого-исследователя середины XIX в., как увлеченность и страсть к первооткрывательству, которые привели его сначала на мыс Доброй Надежды, а теперь и на Канарские острова. Но дух первооткрывательства подчас плохо сочетался со скрупулезностью, которой требовали от него ученые мужи в Лондоне, одолжившие ему инструменты (и деньги). Их требования были многочисленны, разнообразны и строго регламентировали, чем, по их мнению, мог, а чем не мог заниматься Пьяцци Смит. Тогда как экспедиция имела своей целью раздвинуть границы астрономической науки до невиданных ранее пределов, сам ее организатор должен был строго придерживаться установленных границ. Это касалось, в частности, того, какого рода наблюдениями он мог заниматься (геологические и биологические изыскания не приветствовались), а также в какой форме и каким языком должен был их описывать. Пьяцци Смиту все это было известно, что объясняет попытку оправдаться, присутствующую в его рассказе о первой встрече с вершиной. Он знал, что должен подавлять эмоции и сосредоточиться на сборе научных данных, ради которых прибыл сюда. Если он будет усердно трудиться и ему улыбнется удача, он сумеет превратить эту вершину в форпост британской астрономии, своего рода научную колонию, которая сможет поставлять в метрополию щедрые потоки новых знаний. Все это отчасти объясняет, почему в его описании прибытия на Тенерифе присутствуют и эмоции, и «физическое обоснование» увиденного природного явления. Любопытно, что Пьяцци Смит, мечущийся между двумя столь разными способами восприятия, счел нужным поделиться этим опытом со своими читателями.
Необходимость исключить из научных наблюдений все личное приобрела особую актуальность в астрономической науке в середине XIX в., когда стало очевидно, что различия в скорости реакции наблюдателей могут быть источником существенных погрешностей в том случае, когда дело касается требующих чрезвычайной точности наблюдений за движением небесных тел. Название, данное этой проблеме, – «погрешность наблюдателя» – подчеркивало необходимость сведения обусловленных человеческим фактором различий к числовому коэффициенту, который можно вычесть из результатов наблюдений и получить истинные значения. Астрономы с параноидальной одержимостью старались выявить и учесть любые возможные источники погрешностей. «Бдительность не должна знать сна, терпение не должно знать усталости, – писал один из популярных авторов в конце XIX в. – За источниками переменных и систематических ошибок должна вестись неустанная охота; каждая бесконечно малая погрешность должна сопоставляться с другой; все силы и превратности природы – морозы, конденсаты, ветры, процессы теплообмена, искажающие эффекты гравитации, дрожание воздуха, подземные толчки, вес и жизненное тепло самого наблюдателя, а также скорость, с которой его мозг получает впечатления и передает их, – должны учитываться в расчетах и исключаться из результатов» [71] Agnes Clerke, A Popular History of Astronomy during the Nineteenth Century (London: Adam & Charles Black, 1893), 152.
.
Но даже самые строгие меры предосторожности не позволяли полностью устранить человеческий фактор, например разную скорость реакции у наблюдателей, пытавшихся с предельной точностью зафиксировать время, когда звезда пересекла определенную точку на небе. Чем точнее становились астрономические карты, тем большую роль играла «погрешность наблюдателя», поскольку даже крошечные различия в скорости человеческой реакции имели значение при измерении столь малых единиц времени. Одним из способов решения этой проблемы было установление иерархии наблюдателей, когда за каждым ведущим наблюдения астрономом в свою очередь наблюдали другие астрономы вплоть до самих директоров обсерваторий [72] Simon Schaffer, «Astronomers Mark Time: Discipline and the Personal Equation,» Science in Context 2, no. 1 (1988): 115–145.
. Поэтому, хотя Пьяцци Смит и находился на горе в сопровождении множества помощников, на взгляд таких астрономов, как Джордж Эйри, глава Королевской обсерватории в Гринвиче, это было все равно, как если бы он был там совершенно один: рядом с ним не было никого, кто мог бы наблюдать за тем, как он ведет свои наблюдения, и кто мог бы вести собственные наблюдения, чтобы сопоставлять их с наблюдениями Пьяцци Смита.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу