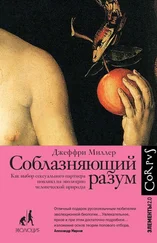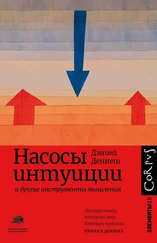«Контакты взрослых людей, говорящих на разных языках, способствуют созданию лингвистических вариантов с пониженным уровнем морфологической сложности» (стр. 148). Очевидной мотивацией для этого служит то, что говорящие бессознательно «тяготеют» к упрощению выражений в ответ на возможное недопонимание слушателей. В некоторых ситуациях это стремление приводит к чему-то вроде эрозии языка, в результате простой экономии физических сил в ответ на требование сделать высказывание понятным, из-за лени или сбережения усилий, потребных для изобретения упрощений, которые сумели бы скопировать другие. Однако цели стать понятным можно достичь не только снижением уровня сложности с попутной экономией сил, но и с помощью «мутаций» или придумывания иных путей стать понятным, даже путем отслеживания выражения лица и других реакций слушателя, не ожидая каких-то специальных указаний со стороны говорящего. Подобное «тяготение» к изменениям может привести как к интенсификации, усовершенствованию, так и к упрощению, экономии усилий и времени. И значит, как обычно, мы можем увидеть дарвиновский ход «бессознательного отбора», незаметно превращающийся в «методический отбор» и даже «разумное созидание», которое тоже происходит постепенно, путем неосознанных проб и ошибок (так наивные туристы орут в ухо туземцам, пытаясь говорить на «простом английском»), постепенно уступающих место изобретательным инновациям, опирающимся на жесты и пантомиму, и ненадолго застревающих на временных «договоренностях», смысл которых понятен из контекста (вы качаете головой и подчеркиваете торговцу рыбой, что вам нужен «маленький», а он не понимает вашего языка, и с этого момента вся мелкая рыба становится для вас обоих « маленки »).
Первые слова без всякого сомнения относились к «вещам, для которых уже существовали понятия», – это означает попросту, что мы были оснащены либо врожденной генетической, либо полученной за счет жизненного опыта способностью различать их и распознавать возможности, которые они несут в себе, следить за ними, пользоваться ими адекватно в соответствующих обстоятельствах. Каким образом эти соответствия закрепляются в нашем мозгу, – до сих пор все еще представляет собой загадку во многих отношениях, теоретически существует множество способов воплощения (обмозговывания?) потенциальных свойств предметов. Херфорд полагает, что в этой области пока можно продвигаться и без надежной неврологической теории.
Взаимосвязь между словом и объектом, то есть значение, находится под влиянием представлений в головах пользователей языка. Мы имеем дело с тремя видами сущностей: лингвистические сущности, такие как слова и выражения, ментальные сущности, такие как преставления и мирские объекты, и отношения, такие как собаки, облака, процесс еды, быть ростом выше кого-то, и так далее… Наш мозг знает, что понятия хранятся в нем, но при этом мы не очень-то знаем, каким образом… Если вас это задевает, подумайте о том, как в XIX веке люди искали истоки Нила. Люди знали, что у Нила должен был быть исток, как у всех рек, и они знали, что это где-то посреди Африки . Со временем исток был найден. Выражение « исток Нила » не было бессмысленным только потому, что никто не знал, к какому месту оно относилось (стр. 60) 82.
Вместе с пониманием потенциальных возможностей мы получаем множество способов их описания, называния, привлечения к ним внимания, выделения, и возникает вероятность чего-то типа симбиоза: две возможности объединяются в нечто новое, понятие в специфически человеческом смысле слова, с понятным значением. Как мы совмещаем все эти разные виды «вещей» – слова и объекты – в нашем явленном образе действительности? В детстве мы впервые открываем для себя слова и объекты. Дети тратят значительную часть своего времени на исследование мира, сопоставляя предметы – кубики, кукол, палочки, кусочки еды и мусора, стараясь добраться до всего, что можно потрогать.
Что это? Я могу рассмотреть его, попробовать на вкус, засунуть в нос, сжать в кулачке, ударить по нему, разбить его, уронить, бросить, подобрать и надеть на голову. Одновременно я могу лепетать и ворковать и знакомить мой язык и уши с тем, как эти «штуки» произносятся. Очень скоро я смогу спросить, как они называются и что этот звук означает 83.
Из хаотичного нагромождения разнообразных возможностей могут возникать закономерности, периодически и ненамеренно привлекая внимание. Когда вещи становятся достаточно знакомы, они могут быть присвоены : мой кубик, моя кукла, моя еда и мои слова – вначале они бессознательно воспринимаются как мои , а потом уже превращаются в собственность. Вместе со способностью различать и опознавать приходит и способность обдумывать: суждение, что эти два предмета одинаковы, а эти – разные, может привести к осознанию понятий более высокого порядка – сходства и различия, которые становятся двумя дополнительными «вещами» в картине мира ребенка. Подобно пребиотическим циклам, обеспечивавшим повторяющиеся процессы, из которых возникли жизнь и эволюция, эти повторяющиеся манипуляции создают механизм рекомбинаций, из которых складывается плотно заселенная картина мира взрослеющего человеческого детеныша. В дальнейшем, в главе 14, мы рассмотрим более подробно, как картина мира постепенно проявляется в сознании ребенка , становясь частью его сознательного опыта.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
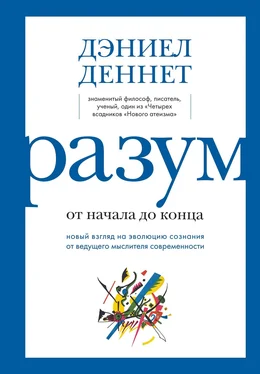





![Берндт Хайнрих - Зачем мы бежим, или Как догнать свою антилопу [Новый взгляд на эволюцию человека] [litres]](/books/386118/berndt-hajnrih-zachem-my-bezhim-ili-kak-dognat-svo-thumb.webp)
![Джеффри Миллер - Соблазняющий разум [Как выбор сексуального партнера повлиял на эволюцию человеческой природы] [litres]](/books/401316/dzheffri-miller-soblaznyayuchij-razum-kak-vybor-seksu-thumb.webp)