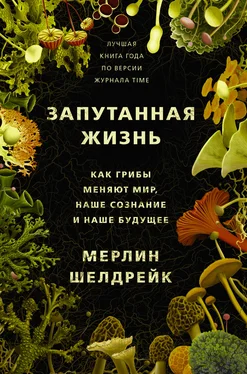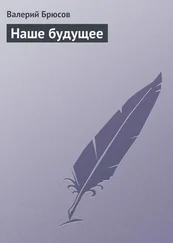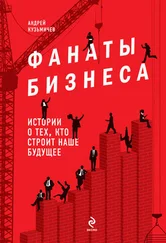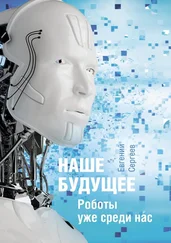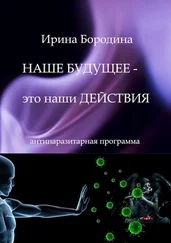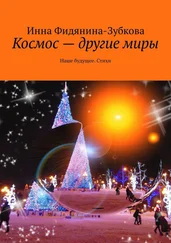Архитектура мозга животных сильно отличается от архитектуры грибниц. В первом случае нейроны стыкуются с другими нейронами в синапсах, и там сигналы объединяются с другими сигналами. Молекулы-нейромедиаторы проходят через синапсы и позволяют различным нейронам вести себя по-разному – некоторые возбуждают нейроны, некоторые подавляют их. Сети мицелия не обладают такими особенностями.
Но если бы грибы не использовали электроволны для передачи сигналов по сети мицелия, разве мы не стали бы думать о мицелии как своеобразном прототипе мозга? По мнению Олссона, могут быть и другие способы регулирования электрических импульсов в сети мицелия, чтобы создать «электрические цепи, приемники сигнала и генераторы, подобные тем, что существуют в мозгу». У некоторых грибов гифы разделяются на отсеки септами с порами, проницаемость которых в точности регулируется. Когда пóра открывается или закрывается, изменяется сила сигнала, проходящего от одного отсека к другому, будь то химический или электрический сигнал или сигнал об изменении давления. Если внезапное изменение электрического заряда могло бы открыть или закрыть пору, размышлял Олссон, то всплеск частоты импульсов мог бы изменить путь прохождения через гифу последовательных сигналов, и так мицелий «запомнил» новый алгоритм. Более того, гифы ветвятся. Если два импульса сошлись бы в одном месте, оба влияли бы на проводимость пор, интегрируя сигналы из различных ветвей. «Не нужно хорошо разбираться в работе компьютеров, чтобы понять, что такие системы могут создавать точки принятия решений, – сказал мне Олссон. – Если соединить эти системы в гибкую и подвижную сеть, появляется возможность создать “мозг”, который способен учиться и запоминать». Он держался от слова «мозг» на безопасном расстоянии, заключая его в кавычки и подчеркивая тем самым, что использовал его в качестве метафоры.
То, что грибы могут использовать электрические сигналы как основу для быстрой коммуникации, не укрылось от взора Андрея Адамацкого, директора Лаборатории нетрадиционных компьютерных исследований. В 2018 году он внедрил электроды в плодовые тела вешенки, растущие гроздьями из участков мицелия, и обнаружил спонтанные волны электрической активности. Когда он поднес пламя к плодовому телу, другие плодовые тела той же грозди отреагировали резким скачком напряжения. Вскоре после этого он опубликовал статью Towards fungal computer («Изобретая грибной компьютер»). В ней он предположил, что сети мицелия «обрабатывают» информацию, закодированную в пиках электрической активности. Если бы мы знали, как сеть мицелия будет реагировать на такой стимул, считает Адамацкий, мы могли бы рассматривать ее как живую микросхему. Стимулируя мицелий, например с помощью пламени или химических веществ, мы, суть, вводили бы данные в грибной компьютер.
Как бы фантастически ни звучало словосочетание «грибной компьютер», но биокомпьютерные технологии – это стремительно развивающаяся область. Адамацкий потратил несколько лет на разработку способов применения слизевиков в качестве датчиков и «компьютеров». Его прототипы биокомпьютеров используют слизевиков для решения ряда геометрических задач. «Сети» [15] Дело в том, что у слизевиков, не являющихся грибами, нет грибницы. Их вегетативное тело – плазмодий с псевдоподиями. – Прим. науч. ред.
слизевиков могут модифицироваться, например путем отсечения связи, чтобы изменить набор «логических функций», которые выполняются в конкретной сети. «Грибной компьютер» Адамацкого – это прикладная технология обработки информации слизевиками к другим «сетевым» организмам. По наблюдениям Адамацкого, есть грибницы более приспособленные для информационных технологий, чем «сеть» слизевиков. Это старые грибницы, которые не спешат принимать новые формы. К тому же они крупнее, у них больше связей между гифами. Именно в местах этих соединений, которые Олссон назвал «схемами принятия решений» ( decision gates ), а Адамацкий описывает как «элементарные процессоры», взаимодействуют и объединяются сигналы, идущие от различных ветвей сети. Адамацкий подсчитал, что грибница опенка, покрывающая более 15 гектаров, содержит приблизительно триллион таких «процессоров».
Для Адамацкого предназначение грибных компьютеров не в том, чтобы заменить микросхемы, – они для того слишком неторопливы. Скорее, как он считает, можно было бы использовать мицелий, развивающийся в какой-либо экосистеме, как «большой датчик, отражающий состояние окружающей среды». Грибницы, согласно его рассуждениям, отслеживают большое число потоков данных, и это составляет часть их повседневной жизни. Если бы мы могли подключиться к сетям мицелия и объяснить сигналы, которые они используют для обработки информации, мы могли бы больше узнать о том, что происходит в экосистеме. Грибы могли бы рассказать о качестве почвы, чистоте воды, экологическом загрязнении и других параметрах окружающей среды, к которым они чувствительны.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу