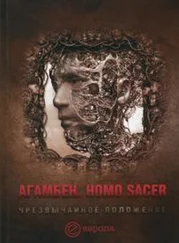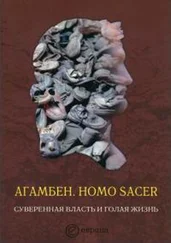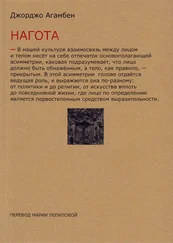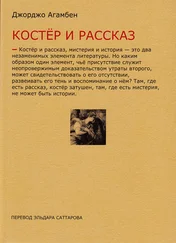Важно констатировать, что Аристотель никоим образом не определяет, что такое жизнь; он ограничивается тем, что разлагает ее через изоляцию функции способности к питанию, чтобы затем вновь «сконструировать» ее как ряд различных, взаимно соотнесенных способностей или потенций (способность к питанию, движение, восприятие, мышление). Здесь мы видим в действии тот главный принцип, который вообще образует стратегический диспозитив мышления Аристотеля. Этот принцип состоит в том, чтобы преобразовывать всякий вопрос «Что это?» в вопрос «Посредством чего [did ti ] некая вещь принадлежит к чему-то другому?» Спрашивать, почему определенное существо считается живым, означает искать фундамент, на основании которого этому существу причитается жизнь. Таким образом, среди различных значений, в каких понимается жизнь, необходимо отделить от других одно-единственное, считая его принципом, благодаря которому определенному существу может приписываться жизнь. Иными словами, то, что отделяется и выделяется (в данном случае, жизнь, основанная на функции питания), есть как раз то, что — в соответствии со своего рода divide et impera 4 4 Разделяй и властвуй (лат.).
— позволяет сконструировать единство жизни как иерархическое членение ряда противопоставленных друг другу способностей и функций.
Обособление жизни, основанной на принципе питания (которую уже античные комментаторы называли растительной, вегетативной, жизнью), представляет собой во всех смыслах основополагающее событие для западной науки. Если несколько столетий спустя Ксавье Биша в своих «Физиологических исследованиях о жизни и смерти» отличает «животную душу», которую он определяет через отношения с внешним миром, от «органической жизни», представляющей собой не что иное, как «обычную последовательность усвоения и выделения» ( Bichat , 61), то здесь опять-таки растительная жизнь Аристотеля образует смутный фон, на котором выделяется жизнь высших животных. Согласно Биша, в каждом высшем организме одновременно присутствуют, так сказать, два «животных»: Vanimal existant au-dedans 5 5 Животное, существующее внутри (франц.).
, чья жизнь—определяемая Биша как «органическая» — представляет собой не что иное, как повторение ряда, так сказать, слепо и бессознательно действующих функций (кровообращение, дыхание, усвоение пищи, выделение и т. д.), и Vanimal vivant au-dehors 6 6 Животное, живущее во внешнем измерении (франц.). По закону (лат.).
, чья жизнь — единственная, которая, с точки зрения Биша, заслуживает имени «животная» — определяется через отношения с внешним миром. Оба этих животных уживаются в человеке, но не совпадают между собой: органическая жизнь «внутреннего животного» начинается в зародыше раньше, чем животная, а при старении и умирании она живет дольше смерти «животного внешнего».
Остается упомянуть о стратегической важности, которую имело познание этого разделения между функциями растительной жизни и функциями отношения к среде в истории современной медицины. Успехи современной хирургии и анестезии основаны, среди прочего, на возможности одновременно разделять и сочетать между собой двух животных Биша. И если государство эпохи модерна — как показал Фуко — начиная с XVII столетия причисляет заботу о жизни населения к своим важнейшим задачам и, таким образом, преобразует политику в биополитику, то, в первую очередь, именно через продвигающееся обобщение и переопределение понятия растительной жизни (теперь совпадающей с биологическим достоянием нации) государство начинает соответствовать своему новому определению. И даже сегодня в дискуссиях, касающихся определения ex lege ^критериев клинической смерти, именно дальнейшая идентификация этой нагой жизни — жизни, которая отделена от всякой мозговой деятельности и, так сказать, от субъекта — решает относительно того, считать ли определенное тело живым, или же оно «доехало до конечной станции», и ему требуется пересадка органов.
Таким образом, разделение жизни на растительную и реляционную, органическую и животную, животную и человеческую проницает, как подвижную границу, преимущественно внутреннюю часть живого человека, и без этой глубинной цезуры решение о том, что является человеческим, а что — не человеческим, было бы невозможным. Только потому, что нечто напоминающее животную жизнь «отложилось» внутри человека; только потому, что дистанция от животного и близость к нему измеряются и распознаются у человека в самом глубоком и близком для него, человека можно противопоставить прочим живым существам и в то же время организовать сложную — и не всегда поучительную—экономику отношений между людьми и животными.
Читать дальше