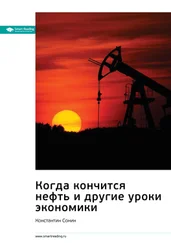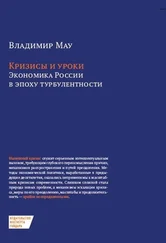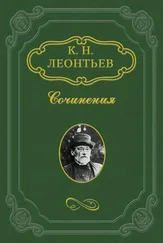В нашей научной, чисто теоретической статье, написанной совместно с Дароном Асемоглу из Массачусетского технологического института и Георгием Егоровым из Северо-Западного университета в Чикаго, предлагалось такое объяснение [37]. При авторитарных режимах способность действующих лидеров оставаться у власти против интересов своих граждан довольно велика (популярным лидерам, как правило, нет необходимости подтасовывать выборы и разгонять демонстрации). Если экономическая ситуация в стране никак не меняется, то качество управления зависит от тех, кто в данный момент находится у власти. Случается, что и при авторитарном режиме на самом верху оказываются наиболее квалифицированные политики. Однако когда ситуация все же меняется – а это совершенно неизбежно, – могут понадобиться лидеры с другими качествами. Демократии, в которых процедура смены руководителей страны проще и дешевле, чем в автократии, получают долгосрочное преимущество: там почти исключен застой.
Иногда для создания устойчивого и успешного авторитарного режима нужно, чтобы страна пережила гражданскую войну или что-то кровавое, но чуть менее масштабное – например, массовые репрессии. В Мексике создание Институционально-революционной партии, в течение пятидесяти лет позволявшей политическую конкуренцию только “изнутри”, последовало за десятилетием кровавой гражданской войны. В Китае после тридцати лет ничтожного прозябания при грандиозной геополитической риторике Мао в 1970-х годах элита решительно отвергла организацию власти, при которой персональная судьба функционера – разменная монета в руках его патрона в Политбюро.
Так же решительно покончила с прежними методами борьбы за власть и элита КПСС семьдесят лет назад. Начиная с середины 1950-х проигравший в “схватке бульдогов под ковром” уходил на пенсию, а не в пыточную камеру и не на расстрел. До этого в течение нескольких десятилетий было по-другому. Между 1925 и 1952 годами только один член Политбюро, верховного органа власти, покинул руководство страны и умер своей смертью. Не считая тех, кто умер или покончил с собой на посту, все остальные были казнены или умерли в заключении. Только после смерти Сталина (и казни нескольких бывших руководителей) отставка перестала быть синонимом смерти. Впрочем, это не помогло. При всем отличии от романтических революционных лет советский режим так толком и не институционализировался. Произошедшая в середине 1980-х смена власти пришла с опозданием в десять лет, слишком поздно.
В Китае же даже Дэн Сяопин, возглавивший страну после смерти Мао Цзэдуна, подчинялся коллегам по Коммунистической партии: его ставленник Ху Яобан был вынужден уйти в отставку в 1988 году под давлением коллег по Политбюро, а в 1989-м Дэну пришлось сдать еще одного ставленника – Чжао Цзыяна. Лидер, не справившийся с выступлениями студентов на площади Тянаньмэнь, отправился под домашний арест, а Сяопин заключил новый союз со сторонниками жесткой линии.
Бесли и Кудамацу считают успешными диктатурами те, при которых в течение многих лет были высокими темпы экономического роста, стабильно улучшались показатели в области образования и здравоохранения. То есть гитлеровская Германия, где период быстрого роста продлился совсем недолго, или ниязовский Туркменистан 1990-х, где рост благосостояния сопровождался падением уровня школьного образования – закрытие школ и отмена предметов были частью государственной политики, – не вошли бы в список. А два хороших примера, не столь часто встречающиеся в популярных текстах, как Китай и Южная Корея, выглядят так: Бразилия 1965–1974 и Румыния 1948– 1977 годов. Интересно, что в каждом из этих случаев диктатура менялась не на демократию, а на другой, гораздо менее успешный авторитарный режим.
В случае Румынии в 1977 году единоличную власть получил Николае Чаушеску, быстро расставивший на ключевые посты своих родственников. Закончилось все это через двенадцать лет, в 1989 году, расстрелом бывшего диктатора после двух дней преследования и двухчасового суда – так велик был запас ненависти к нему и среди населения, и среди политической элиты. А ведь до 1977 года экономические успехи Румынии были впечатляющими. Стоило селекторату сузиться – и развитие замедлилось.
В Бразилии за девять лет, с октября 1965-го по январь 1974-го, сменилось четыре президента. Хотя формально право назначать президента принадлежало парламенту, фактически селекторатом были вооруженные силы. Уходящий в 1967 году президент Умберту Кастелу Бранку, армейский ставленник, попытался выбрать себе преемника вопреки мнению широких слоев армейской элиты, но это оказалось невозможно. В 1969 году, когда у очередного диктатора, Артура да Коста-и-Силвы, случился удар, он был мгновенно заменен кандидатом, избранным солидарным решением селектората, а не вицепрезидентом, как предписывала конституция.
Читать дальше
![Константин Сонин Когда кончится нефть и другие уроки экономики [львиная доля примечаний (сносок) отсутствует)] обложка книги](/books/409127/konstantin-sonin-kogda-konchitsya-neft-i-drugie-uro-cover.webp)
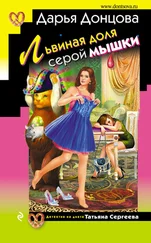


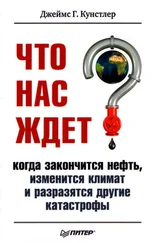



![Константин Сонин - Когда кончится нефть и другие уроки экономики [litres]](/books/409071/konstantin-sonin-kogda-konchitsya-neft-i-drugie-uro-thumb.webp)