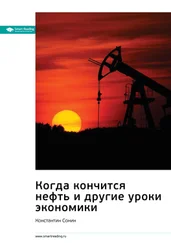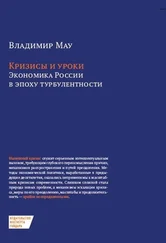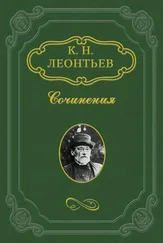Закон 2001 года установил “правило одного окна” для регистрации бизнеса, ограничил сроки рассмотрения заявок на регистрацию одной неделей и запретил одному и тому же органу осуществлять инспекцию чаще, чем раз в два года. В теории Пигу, где действуют регуляторы, заботящиеся лишь об общественном благе, последнее правило должно было вызвать ухудшение качества продукции.
База данных, обновлявшаяся каждые полгода в течение четырех лет после начала реформы, позволяла не только видеть изменения в административной нагрузке на малый бизнес, но и оценивать издержки входа на рынок для новых компаний. Картина выглядит так. В тех регионах, где высока прозрачность государственных органов, низок уровень коррупции и высока доля региональных доходов в налогах, реформа оказалась наиболее эффективной. Административная нагрузка на бизнес действительно снизилась. Дерегулирование прошло успешно, причем без издержек в виде снижения качества продукта. Значит, Пигу оказался не прав в споре со Шлейфером.
А вот вопрос о правоте Стиглера, используя опыт российских регионов в начале 2000-х, разрешить до конца не удалось. Наличие сильного промышленного лобби, что в данных соответствовало высокой концентрации региональной индустрии, устойчиво способствовало успеху реформ. Чем сильнее политически крупные промышленники, тем лучше двигалась реформа. С одной стороны, Стиглер прав: именно его теория устанавливает зависимость регулирования от интересов компаний, уже находящихся на рынке. С другой стороны, снижение административных издержек в результате реформ отмечено для малого бизнеса, а промышленное лобби – бизнес большой. Конечно, они конкурируют на рынке труда, но почему большому бизнесу выгодно облегчение условий существования малого, не очень понятно.
Пока правительства и Всемирный банк радуются успехам в дерегулировании, отношение в мире к роли государства опять начинает меняться в противоположную сторону. Идея дерегулирования состоит, конечно, в том, что снижение государственного вмешательства, способствуя конкуренции, одновременно снизит цены и повысит качество. Тем не менее в Америке неудачные эксперименты администрации Буша-младшего (2001–2009) по приватизации государственных услуг – от работы тюремщиков до служб спасения, – столь привлекательные в теории, на деле привели к росту коррупции и снижению качества оказываемых услуг. Попытки французского президента Саркози (2007–2012) снизить государственный контроль на рынке труда путем предоставления компаниям большей свободы в увольнении сотрудников, закончились полным фиаско. Правда, фиаско политическим, а не экономическим, но это тоже урок экономики.
Репутация российских регулирующих органов в XXI веке в значительной степени подмочена их политической активностью: и запретом на ввоз “Боржоми” из-за внешнеполитического конфликта с Грузией, и экологическими претензиями к иностранным участникам проекта “Сахалин-2”, и вмешательством в земельные конфликты в Подмосковье, и санкциями, введенными в 2015 году против Украины и Турции. Если продукция из какой-то страны оказывается не соответствующей санитарным нормам в момент, когда обостряются внешнеполитические отношения с этой страной, это означает, что контролирующий орган – Роспотребнадзор – не занимается своей работой компетентно. Качество грузинских вин не поменялось от того, что президент Грузии что-то сказал о президенте России, а качество украинских помидоров не зависит от того, кого избрали президентом Украины. Впрочем, качество продуктов питания в магазинах сравнительно высоко по меркам развивающихся стран, так что свести всю деятельность Роспотребнадзора к чистой политике невозможно. Точно так же и другие регуляторы: не идеально, но работают.
Рыба или удочка?
урок № 11. Правительство может помогать росту. Недолго
Истории о том, как местные политики выбивали деньги у президента Рузвельта на электрификацию и строительство плотин в своих избирательных округах, долгое время служили источником вдохновения для государственных деятелей по всему миру. Политика масштабных инвестиций в инфраструктуру, предпринятая для борьбы с Великой депрессией в 1932 году, не поставила американскую экономику на путь устойчивого развития. “Пиковый”, преддепрессионный, уровень производства был достигнут только с началом войны. Однако программа Рузвельта дала результаты. Плотины были построены, отдаленные сельские районы освещены, а выросшая занятость сняла угрозу краха политической системы.
Читать дальше
![Константин Сонин Когда кончится нефть и другие уроки экономики [львиная доля примечаний (сносок) отсутствует)] обложка книги](/books/409127/konstantin-sonin-kogda-konchitsya-neft-i-drugie-uro-cover.webp)
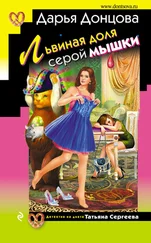


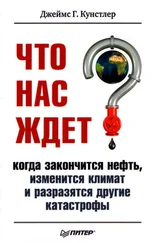



![Константин Сонин - Когда кончится нефть и другие уроки экономики [litres]](/books/409071/konstantin-sonin-kogda-konchitsya-neft-i-drugie-uro-thumb.webp)