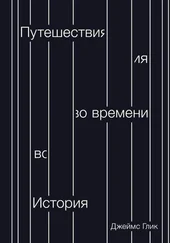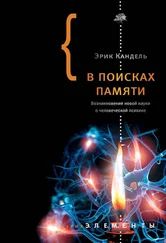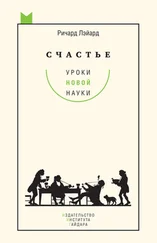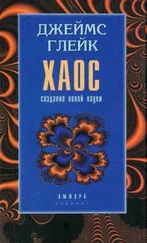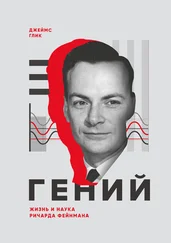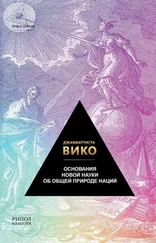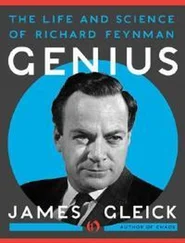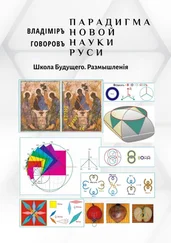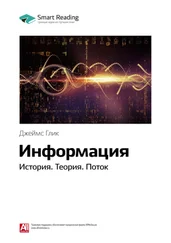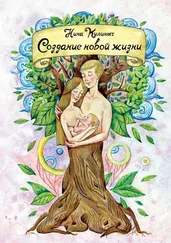Человек, шутя разрешавший трудности коллег, казалось, был равнодушен к тому, что сулило славу. Ему, например, нравилось размышлять о турбулентности в жидкостях и газах. Раздумывал он и о свойствах времени: непрерывно оно или дискретно, как чередование сменяющих друг друга кадров киноленты. Еще его занимала способность человеческого глаза отчетливо различать цвет и форму предметов во Вселенной, пребывающей, по мнению физиков, в состоянии квантового хаоса. Он размышлял об облаках, наблюдая за ними с борта самолета, а затем, когда в 1975 году ему урезали финансирование на поездки, с утесов, обступивших лабораторию.
На гористом американском западе облака мало похожи на ту темную бесформенную дымку, что низко стелется над восточным побережьем. Над Лос-Аламосом, лежащим на дне большой вулканической впадины-кальдеры, облака кочуют в беспорядке, но структура их в каком-то смысле упорядоченна. Они принимают формы горных цепей или изрытых глубокими морщинами образований, похожих на поверхность мозга. Перед бурей, когда небеса мерцают и дрожат от зарождающегося в их недрах электричества, эти пропускающие и отражающие свет облака видны за тридцать миль. А весь небесный купол являет взору человеческому грандиозное зрелище, безмолвный укор физикам, которые обходят своим вниманием облака – феномен, хоть и структурированный и доступный наблюдению, но слишком расплывчатый и совершенно непредсказуемый. Вот о подобных вещах и размышлял Фейгенбаум – тихо, незаметно и не очень продуктивно.
Физику ли думать про облака? Его дело – лазеры, тайны кварков, их спин, цвет и аромат, загадки зарождения Вселенной. Облаками же пусть занимаются метеорологи. Эта проблема из разряда «очевидных» – так называются на языке физиков-теоретиков задачи, которые опытный специалист способен разрешить путем анализа и вычислений. Решение «неочевидных» проблем приносит исследователю уважение коллег и Нобелевскую премию. Самые сложные загадки, к которым нельзя подступиться без длительного изучения первооснов и главных законов мироздания, ученые именуют «глубокими». Немногие коллеги Фейгенбаума догадывались о том, что в 1974 году он занимался действительно глубокой проблемой – хаосом.
С началом хаоса заканчивается классическая наука. Изучая природные закономерности, физики почему-то долго пренебрегали хаотическими проявлениями: формированием облаков, турбулентностью в морских течениях, скачками численности популяций растений и животных, колебаниями пиков энцефалограммы мозга или сокращений сердечных мышц. Порождаемые хаосом природные феномены, лишенные регулярности и устойчивости, ученые всегда предпочитали оставлять за рамками своих изысканий.
Однако начиная с 1970-х годов некоторые исследователи в США и Европе начали изучать хаотические явления. Математики, физики, биологи, химики принялись искать связи между различными типами беспорядочного в природе. Физиологи обнаружили присутствие некоего порядка в хаотических сокращениях сердечных мышц, что является основной причиной внезапной и необъяснимой смерти. Экологи исследовали колебания численности популяций шелкопряда. Экономисты раскопали старые биржевые сводки, опробовав на них новые методы анализа рынка ценных бумаг. В результате выяснилось, что обнаруженные закономерности имеют прямое отношение ко множеству других природных явлений – очертаниям облаков, формам разрядов молний, конфигурации сеточек кровеносных сосудов, кластеризации звезд в Галактике.
Когда Митчелл Фейгенбаум приступил к исследованию хаоса, он был одним из немногих энтузиастов, разбросанных по всему миру и почти незнакомых друг с другом. Математик из Беркли, штат Калифорния, собрал вокруг себя небольшую группу и трудился над созданием теории так называемых динамических систем. Биолог из Принстонского университета начал готовить к публикации проникновенный меморандум с призывом к коллегам заинтересоваться удивительно сложным поведением биологических популяций, наблюдаемым в некоторых простых моделях. Математик, работающий на компанию IBM, искал термин для описания семейства новых форм: зубчатых, запутанных, закрученных, расколотых, изломанных, которые, по его мнению, являлись неким организующим началом в природе. Французский специалист по математической физике набрался смелости заявить, что турбулентность в жидкостях, возможно, имеет некоторое отношение к необычному, бесконечно запутанному абстрактному объекту, который он назвал «странным аттрактором».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу