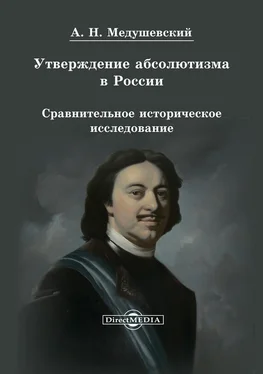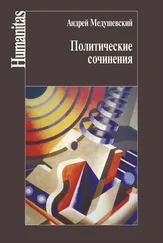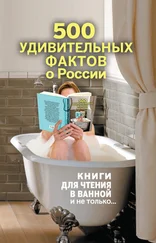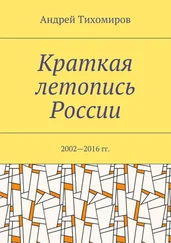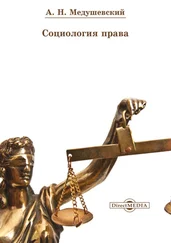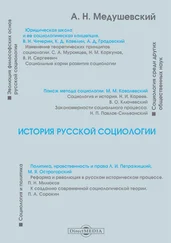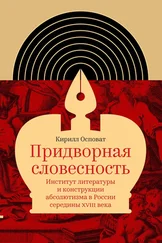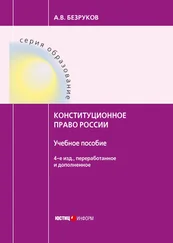Ситуация в Японии изменилась очень поздно – в середине ХIХ в., но именно поэтому встреча с европейской цивилизацией сопровождалась сильным потрясением, своего рода психологическим шоком. Серьезной угрозой независимости страны стало появление у берегов Японии английской эскадры командора Перри в 1853 г. Режим сёгуната оказался перед необходимостью провести модернизацию страны в кратчайшие сроки, что предполагало перестройку административного аппарата. Действительно, в последовавшие за этим годы режим пытался рационализировать управление на традиционной основе за счет таких мер, как сокращение ряда высокооплачиваемых должностей, увольнение некомпетентных чиновников, омоложение кадров, некоторые изменения в армии, попытки повысить восприимчивость к достижениям западной технологии и техники. C одной стороны, проводимые перемены вызывали недовольство консервативных сил, всячески тормозивших их, с другой стороны – становилась очевидной неспособность режима к радикальным изменениям. Осознание этого факта наиболее дальновидной и инициативной группой правящих верхов привело к государственному перевороту 3 января 1868 г. В последние годы существования старого режима Токугава (династия главы исполнительной власти – сёгуна) в рамках правящей элиты четко оформились три основные группы – противники реформ, умеренные и сторонники радикальных перемен, причем каждая из них претендовала на лидерство. Разрешение конфликта приняло форму дворцового переворота, направленного не против монарха, а против главы исполнительной власти – сёгуна, который был отстранен. В результате победы радикалов, сумевших привлечь малолетнего императора на свою сторону, открылась возможность укрепления абсолютистской власти и проведения модернизации общества сверху.
Такая модель догоняющего развития требует, как мы видели, создания эффективного и четко действующего бюрократического аппарата. Начало его создания действительно относится уже к первым дням существования нового режима.
Прежде всего была отменена традиционная административная система Бакуфу, сёгунат, свойственные ему институты и процедуры управления. Реформа центрального аппарата управления была проведена по европейскому образцу, причем было образовано семь главных административных департаментов – по делам государственной религии, внутренних дел, иностранных дел, армии, флота, юстиции и законодательства. Дальнейшее развитие реформы шло в направлении усиления регламентации деятельности учреждений, более четкого функционального их подразделения, совершенствования различных уровней управления, развития контроля и централизации управления. Рационализация охватила и состав аппарата управления, в том числе и правящую верхушку, которая получала чин в соответствии со степенью знатности. В дальнейшем, однако, прослеживается процесс оттеснения аристократии бюрократическими элементами. Основная линия, разграничивающая группировки правящей элиты рассматриваемого периода, проходит по вопросу об отношении к модернизации и европеизации страны. Как и в других странах, господствующей тенденцией для прогрессивной бюрократии становится стремление перенять иностранную передовую технологию и технику, рационалистические научные методы, созданные западной цивилизацией.
Рассматривая в данной сравнительной перспективе государственность Восточной Европы (не беря здесь Россию), мы должны будем признать, что она сильно отличается как от «чистых» западных, так и восточных ее форм. Имея много общего с государствами Востока в плане социальной основы государства, характера его развития в виде скачкообразной модернизации, обратного воздействия государства на общество, восточноевропейский абсолютизм в то же время исторически ориентирован на западные модели административного устройства, соответствующие нормы рационализации управления. В этом заключается зерно противоречия восточноевропейского абсолютизма, который представляет собой опыт сочетания азиатских социальных институтов и западных политических учреждений. Особенно очевидным данное противоречие становится в периоды модернизации, которая здесь (как и на Востоке) неизбежно приобретает форму и характер европеизации. При проведении крупных социальных или (и) административных реформ государство выступает в роли носителя и организатора прогрессивных перемен, хотя ранее то же самое государство (на консервативной фазе) рассматривало их как нечто вредное и чужеродное. Поскольку государство является единственной и достаточно монолитной силой (в странах «к востоку от Эльбы»), процесс модернизации проходит здесь (как и на Востоке) специфически: борьба различных социальных тенденций идет не по горизонтали (столкновение соответствующих течений, одно из которых выходит победителем), а по вертикали – путем волнообразного изменения политики государства от консерватизма к радикализму (правому или левому) и наоборот. При этом государственная власть (или правящая элита) может выражать общественные настроения, но может выступать и вопреки им.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу