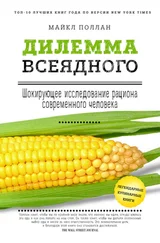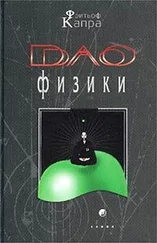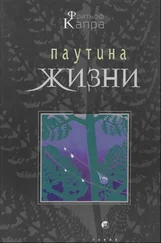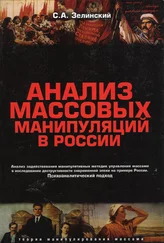Надежное экспериментальное обоснование теорий называется научным методом. Оно имеет параллель и в восточном мистицизме. Греческие философы в этом вопросе придерживались противоположных взглядов. Они выдвигали очень плодотворные идеи по поводу мироустройства, которые часто оказывались близки к современным научным моделям. По линии эмпирики пролегает водораздел между греками и современными учеными. Эмпирический подход современной науки был чужд грекам. Они выстраивали свои модели методом дедукции, на основе фундаментальной аксиомы или принципа, а не данных, полученных путем наблюдений. Но греческое искусство логического мышления и дедукции, безусловно, является неотъемлемой составляющей второго этапа научного исследования, а следовательно, и существенным элементом науки.
Научное исследование, безусловно, в первую очередь подразумевает рациональное знание и мышление, но не ограничивается ими. Рационализация была бы бесполезной, если бы за ней не стояла интуиция, которая дарит ученым новые идеи и простор для творчества. Гениальные идеи обычно приходят неожиданно, не в минуты напряженной работы за письменным столом, а во время прогулки в лесу, на пляже или под душем. Когда напряженная умственная работа сменяется релаксацией, интуиция словно берет верх и рождает неожиданные прозрения, которые привносят в процесс научного исследования невыразимое удовольствие и восторг.
Но физика не может использовать интуитивные озарения, если их нельзя сформулировать точным математическим языком и дополнить описанием на языке обычном. Основная черта последнего – абстрактность. Это, как говорилось выше, система понятий и символов, своего рода карта реальности. Но на ней запечатлены лишь некоторые черты действительности; мы не знаем, какие именно, поскольку начали составлять свою карту еще в детстве, когда не были способны к критическому анализу. Поэтому слова нашего языка неоднозначны. Б о льшая часть их смыслов лишь смутно осознается нами и остается в подсознании, когда мы слышим слово.
Неточность и двусмысленность языка на руку поэтам, которые главным образом играют на человеческом подсознании и ассоциациях. Наука же стремится к четким определениям и недвусмысленным построениям. Она еще более абстрагирует язык, ограничивая значения слов и ужесточая по правилам логики его структуру. Максимальная абстракция царит в математике, где вместо слов используются символы, а оперирование ими подчинено жестким правилам. Благодаря этому ученые способны вместить информацию, для передачи которой понадобилось бы несколько страниц обычного текста, в одно уравнение – цепочку символов.
Представление о математике как о предельно абстрактном и сжатом языке не может не порождать и альтернативные точки зрения. Многие математики действительно верят, что их наука – не просто язык для описания мироздания: она внутренне присуща самой природе. Еще Пифагор заявил: «Все вещи – суть числа», – и создал специфическую разновидность математического мистицизма. Благодаря этому ученому логическое мышление проникло в область религии, что, согласно знаменитому британскому философу Бертрану Расселу, определило характер западной религиозной философии.
Начавшееся с Пифагора сочетание математики и теологии характерно для религиозной философии Греции, Средневековья и Нового времени вплоть до Канта… Для Платона, св. Августина, Фомы Аквинского, Декарта, Спинозы и Канта характерно тесное сочетание религии и рассуждения, морального вдохновения и логического восхищения тем, что является вневременным, – сочетание, которое начинается с Пифагора и которое отличает интеллектуализированную теологию Европы от более откровенного мистицизма Азии [16] Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими и социальными условиями от Античности до наших дней. Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2001.
.
Безусловно, «более откровенный мистицизм Азии» не воспринял бы пифагорейских воззрений на математику. На Востоке математика, со строго дифференцированной и четкой структурой, рассматривается как часть концептуального мышления, а не свойство действительности. Реальность в восприятии мистика неопределенна и не дифференцирована.
Научный метод абстрагирования очень эффективен, но за это нужно платить свою цену. Мы всё точнее определяем систему понятий и всё строже воспринимаем взаимосвязи в мироздании, и наш метод всё больше отдаляется от реальности. Используя аналогию Корзыбского, можно сказать, что обычный язык – карта, которая, в силу присущей ей неточности, способна отчасти повторять очертания сферической неровности Земли. По мере того как мы исправляем ее, гибкость постепенно исчезает, и в математическом языке мы сталкиваемся с крайним проявлением ситуации: связи с реальностью становятся слишком слабыми, а соотносимость символов и нашего чувственного восприятия уже не очевидна. Приходится пояснять модели и теории словами, прибегая к двусмысленным и неточным (увы) понятиям, которые можно воспринять на интуитивном уровне.
Читать дальше