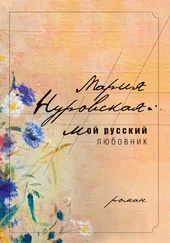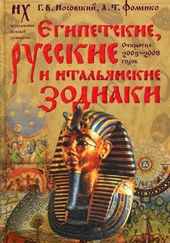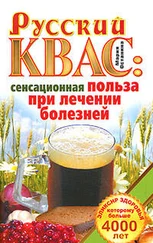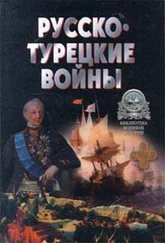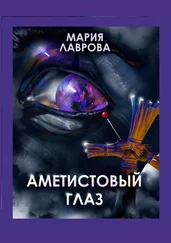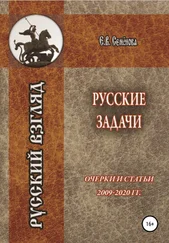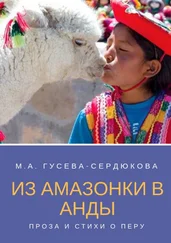К Селину эмигранты неизменно обращались, когда разговор заходил о современной литературе. В статье, посвященной Кэтрин Мэнсфилд, М. Кантор попутно отмечает, что Селин представил жизнь послевоенного поколения как «бессмысленное, безобразное месиво » [67] Кантор М . Воля к жизни (о Катерине Мансфильд) // Встречи. 1934. № 5. С. 214.
. Петр Бицилли проводит на первый взгляд неожиданную параллель между Селином и Сириным, указывая, что Селин, в отличие от Набокова, не сумел создать иллюзию реальности. Бицилли сравнивает «двойника» Бардамю Робинсона с Германом из «Отчаяния», а самого Бардамю – с Цинциннатом из «Приглашения на казнь», «вечным затворником, для которого жизнь сводится к ненужной и бессмысленной отсрочке смерти» [68] Бицилли П. Возрождение аллегории // Современные записки. 1936. № 61. С. 200.
.
Особый, характерный для русского Монпарнаса тип экзистенциализма явственно формировался под знаком Селина, как в стилистическом, так и в метафизическом смысле [69] См.: Красавченко Т. Л. – Ф. Селин и русские писатели-младоэмигранты первой волны // Русские писатели в Париже: Взгляд на французскую литературу 1920 – 1940. М.: Русский путь, 2007. С. 193.
. Главным претендентом на роль «русского Селина» нередко называли Василия Яновского [70] В своей книге Ливак достаточно подробно останавливается на этой аналогии ( Livak L. How It Was Done in Paris: Russian Emigre Literature and French Modernism. Madison, WI: The University of Wisconsin Press, 2003. P. 142 – 153).
. Яновский, как и Селин, получил медицинское образование и, возможно, поэтому был склонен к физиологизму в поэтике, перенося в свои произведения мрачные впечатления, почерпнутые в парижских операционных и моргах. Его рассказы «Розовые дети» и «Рассказ медика», равно как и роман «Портативное бессмертие», особенно напоминают манеру Селина. Впрочем, много лет спустя Яновский отрицал непосредственное влияние на него французского писателя [71] «Меня потом Бердяев несколько обвинял в том, что я подражаю Селину […] Но мы оба были… докторами парижской школы, и очень многое, что он видел, я видел, и гуманитарные реакции к нищете, боли, нужде у нас могли быть те же. Я не думаю, что я был под влиянием Селина […] (Bakhmeteff Archive of the Rare Books and Manuscripts Library, Columbia University, Ms Coll Yanovsky Box 17).
, да и действительно, несмотря на наличие стилистических и тематических параллелей, его творчество, в отличие от творчества Селина, основывалось на стремлении отыскать пути преодоления физического распада, возрождения духовности и даже создания новой всеобщей религии.
Интертекстуальные отсылки к Селину встречаются во многих текстах младоэмигрантов, в том числе в романах Оцупа, Бакуниной и Газданова. Так, ночь как метафора состояния современного человека и эвфемизм смерти превратилась в межвоенной литературе в клише, к нему прибегали даже некоторые франкоязычные авторы русской диаспоры, которые работали в жанре чистой беллетристики. Ирен Немировски, например, поначалу хотела назвать свой роман «Собаки и волки» «Дети ночи». Название книги Газданова «Ночные дороги» явно перекликается с «Путешествием на край ночи» – подчеркивая, что речь идет о мрачном, апокалиптическом состоянии мира и человеческой души. Мотив разложения материи и духа – он особенно явно звучит у Г. Иванова в «Распаде атома» – можно проследить до рассуждений Бардамю о естественном распаде молекул, в котором проявляется общая тенденция к энтропии.
Представители русского Монпарнаса воспринимали роман Селина как образец человеческого документа, идеальную форму для передачи экзистенциального опыта послевоенного поколения и его социальной маргинальности. Однако культ маргинальности, столь характерный для транснационального канона, молодыми русскими эмигрантами был переосмыслен как механизм сопротивления основному нарративу русской культуры, с его представлением о писателе как учителе, пророке, духовном и нравственном авторитете. Вместе с тем их взгляд на себя как на неудачников и солипсическая сосредоточенность на собственных внутренних травмах стали, парадоксальным образом, жестом протеста против культурной политики диаспорального мейнстрима, которая строилась на риторике национального возрождения и коллективной «миссии». Таким образом, маргинальность была переосмыслена как эффективная стратегия, применимая в контексте культурных перемен, эволюции и самоопределения литературного поколения [72] И. Каспэ утверждает, что, хотя демонстративная маргинальность представителей «незамеченного поколения» была формой вызова старшему поколению эмигрантов, она не мешала им претендовать на право их «законных и единственных наследников» (Каспэ (2005). С. 119). Я иначе оцениваю первичную мотивацию, стоявшую за риторикой маргинальности русского Монпарнаса, и вижу в этом скорее стремление отмежеваться от непосредственной «преемственности», выйти за пределы русского литературного канона и обозначить свое место внутри транснационального межвоенного поколения.
.
Читать дальше