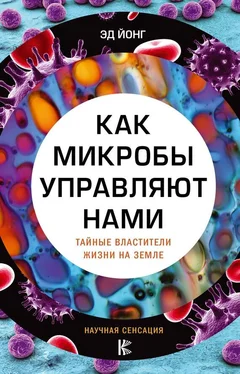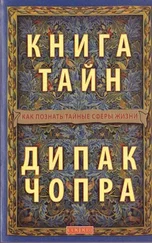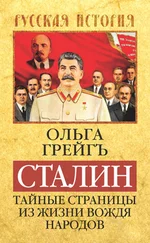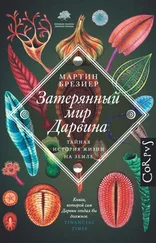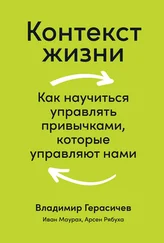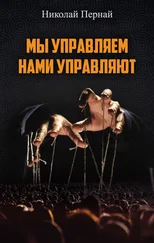Я от рассказов Барра просто в шоке. Ведь это означает, что наши способы формирования и управления микробиомом – фаги, слизь, иммунная система, ингредиенты молока – связаны между собой . Я рассказывал о них как об отдельных инструментах, но на самом деле они – часть огромной взаимосвязанной системы регулирования наших отношений с микробами. В этой реальности, противоречащей здравому смыслу, вирусы могут быть нашими союзниками, иммунная система может содействовать микробам, а кормящая мать не просто кормит ребенка – она обустраивает внутри него целый мир. А что насчет грудного молока? Джерман прав: это не просто кучка химических веществ. Оно кормит как младенца, так и микробов. Оно, словно первичная иммунная система, отпугивает болезнетворных бактерий. Оно дает матери убедиться, что у ее ребенка с первых дней жизни будут нужные и верные партнеры [169]. Оно готовит ребенка ко взрослой жизни.
Как только нас отлучают от груди, нам приходится самим кормить своих микробов. В какой-то мере мы питаем их тем, что едим сами: вместо олигосахаридов человеческого молока наша пища в обилии поставляет им гликаны. Но мы и сами создаем гликаны – их у нас полно в слизистой оболочке кишечника, получаются этакие пастбища для кишечных микробов. Выбирая правильную пищу, мы кормим бактерий, которые с большей вероятностью принесут нам пользу, и морим голодом тех, что более опасны. Наш долг кормить своих микробов столь для нас важен, что мы продолжаем это делать, даже когда не едим сами. Когда животное заболевает, у него, как правило, пропадает аппетит – здравая тактика, позволяющая не тратить энергию на поиски пищи, а вместо этого направить ее на выздоровление. Это значит, что у наших микробов начинается временный кризис – они голодают. Больные мыши в таких случаях вырабатывают для них резервный паек – моносахарид фукозу. Кишечные микробы могут понемногу отъедать кусочки от нее, чтобы дожить до той поры, когда хозяин начнет кормить их в прежнем режиме [170].
Бактерии из группы Bacteroides , обожающие гликаны, вскоре становятся самой распространенной группой микробов во всем кишечнике. Однако следует учесть то, что гликаны настолько разнообразны, что приспособлений, необходимых для того, чтобы съесть их все, нет ни у одного вида бактерий. Это означает, что, употребляя с пищей или производя достаточно гликанов, мы способны поддерживать изобилие разных бактерий. Одни из них едят что придется, словно голуби или еноты, а другие привередничают, как, например, панды или муравьеды. Они образуют пищевые сети, в которых одни микробы расщепляют самые крупные и прочные молекулы на кусочки поменьше, которые затем подъедают другие микробы. Они вступают в соглашения, по условиям которых два вида кормят друг друга, переваривая разную пищу и оставляя огрызки, которые сможет съесть партнер. Они объявляют перемирие и регулируют свои предпочтения в еде так, чтобы не конкурировать с соседями [171].
Их взаимодействия для нас важны, ведь они способствуют стабильности. Если бы одна бактерия слишком усердно поедала гликаны, возможно, она проела бы в слизистом барьере дыру, через которую могли бы пробраться и другие микробы. А вот сотни соперничающих видов не дают друг другу объесться и присвоить себе все пищевые ресурсы. Предоставляя бактериям питательные вещества в широком ассортименте, мы кормим множество их видов и укрепляем огромные и разнообразные сообщества. А эти сообщества, в свою очередь, мешают патогенам захватить кишечник. Если мы правильно накроем стол, на ужин пожалуют те, кого мы ждем, а незваные гости останутся за дверью. Эту традицию начали наши матери, вскормив нас своим молоком, когда мы родились, а мы продолжаем их правое дело.
У хозяев есть и другой способ свести борьбу со своими микробами на нет, причем весьма радикальный: в результате их зависимость друг от друга может достичь такого уровня, что, по сути, они станут одним организмом [172]. Это происходит, когда бактерии забираются прямо в клетки организма-хозяина и затем добросовестно передаются потомству. Теперь их судьбы накрепко связаны. У них все еще есть собственные интересы, но они настолько схожи, что различия уже не имеют значения.
Такие взаимоотношения наиболее популярны у насекомых, и они заманивают микробов в ловушку примитивизации. В клетках хозяина микробы ограничены маленькими популяциями и лишены общения с другими бактериями. Из-за изоляции в их ДНК накапливаются вредные мутации. Все гены не первой необходимости портятся, становятся бесполезными и в конце концов исчезают [173]. Если засунуть симбионта в клетку насекомого и ускорить время, можно будет увидеть, как его геном искажается, коверкается и сокращается. В конце концов в нем останется минимум генов – в основном лишь те, что необходимы для поддержания жизни. У обычного свободного микроба, например у кишечной палочки, геном состоит примерно из 4,6 миллиона нуклеотидов. У Nasuia , самого мелкого из известных симбионтов, их всего 112 тысяч. Если бы геном кишечной палочки был размером с эту книгу, то, чтобы сделать из него Nasuia , вам пришлось бы вырвать все страницы, оставив лишь пролог. Такие симбионты полностью одомашнены: самостоятельно им не выжить, они навсегда заперты в хоромах тел своих хозяев-насекомых [174]. А те, в свою очередь, начинают полагаться на сморщенных симбионтов, которые предоставляют им питательные вещества и другие плюшки. Именно в результате этого процесса древние бактерии превратились в митохондрии – важнейшие органеллы, без которых нам не выжить.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу