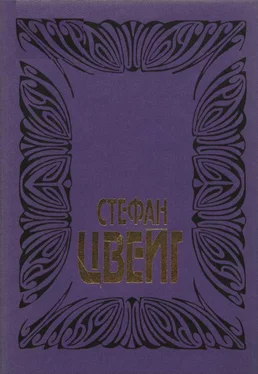Нигде нет союзников, в самой Франции мало приверженцев, он едва находит человека, с которым может посоветоваться в более интимном кругу. Недовольный и смущенный, блуждает император по пустому дворцу. Нервы и сила сопротивления изменяют ему; то, теряя самообладание, он повышает голос, то впадает в тупую летаргию. Часто ложится он спать средь белого дня: не физическая, а душевная усталость, словно свинцовой тяжестью, приковывает его на целые часы к постели. Однажды Карно застает его в слезах перед портретом римского короля, его сына; окружающие слышат жалобы на закат его счастливой звезды. Внутренний компас указывает, что зенит успеха достигнут, и неспокойно колеблется стрелка его воли от полюса к полюсу. Против желания, не надеясь на успех, готовый к любым соглашениям, вступает наконец избалованный победами император в войну. Но дух победы не витает больше над покорно поникшим челом.
Таков Наполеон в 1815 году, — мнимый властелин, мнимый император, кругом в долгу у судьбы, облеченный в призрачный плащ могущества. Бок о бок стоящий с ним Фуше достиг тогда, наоборот, расцвета своих сил. Ум закаленный, вооруженный коварством, сдается не так быстро, как ум, пребывающий в вечном круговороте страстей. Никогда Фуше не был так ловок, так пронырлив, так изворотлив и смел, как в эти сто дней, в период воссоздания и падения империи; не к Наполеону, а к нему обращены полные ожидания взоры, от него ждут спасения. Все партии (необычайное явление) оказывают этому министру больше доверия, чем сам император. Людовик XVIII, республиканцы, роялисты, Лондон, Вена — все видят в Фуше единственного человека, с которым можно действительно вести переговоры, и его расчетливый холодный ум внушает усталому, жаждущему мира человечеству больше доверия, чем вспышка мятущегося гения Наполеона.
Все те, кто отказывает «генералу Бонапарту» в титуле императора, все они с уважением относятся к личному кредиту Фуше. Те самые границы, на которых беспощадно задерживаются и арестовываются государственные агенты императорской Франции, словно по мановению волшебного жезла открываются для тайных агентов герцога Отрантского. Веллингтон, Меттерних, Талейран, герцог Орлеанский, царь и короли, — все они охотно и с величайшей вежливостью принимают его эмиссаров, и тот, кто до сих пор всех обманывал, вдруг становится единственным честным игроком в мировой игре. Достаточно ему двинуть пальцем, чтобы вершилась его воля. Вандея восстала, предстоит кровавая борьба, — недостаточно Фуше отправить гонца, и он одними переговорами предотвращает гражданскую войну. «Для чего, — говорит он с откровенной расчетливостью, — проливать сейчас французскую кровь? Еще несколько месяцев — и император либо победит, либо погибнет; зачем бороться за то, что, вероятно, без борьбы станет вашим достоянием? Сложите оружие и ждите!» И тотчас же роялистские генералы, убежденные этими трезвыми, отнюдь не сентиментальными доводами, заключают желанный договор.
Все — за рубежом и внутри страны — прежде всего обращаются к Фуше, ни одно парламентское решение не принимается помимо него, — беспомощно смотрит Наполеон, как слуга парализует его руку везде, где ему хотелось бы нанести удар, как он направляет против него выборы и с помощью республикански настроенного парламента ставит преграды его деспотической воле. Тщетно хочет Наполеон освободиться от него; миновало время, когда от герцога Отрантского, как от неудобного слуги, можно было самодержавно отделаться несколькими миллионами, дав ему отставку; теперь министр может скорее столкнуть с трона императора, чем император герцога Отрантского с его министерского кресла.
Эти недели своевольной и вместе с тем обдуманной, двойственной и все же ясной политики составляют самые совершенные страницы истории мировой дипломатии. Даже личный противник, идеалистически настроенный Ламартин, вынужден воздать дань уважения макиавеллистическому гению Фуше. «Нужно признать, — пишет он, — что Фуше проявил редкую смелость и стойкую неустрашимость в своей роли. Он ежедневно рисковал головой из-за своих козней, он мог бы немедленно пасть жертвой гордости или гнева, пробудившегося в груди Наполеона. Из всех уцелевших со времени Конвента он один сохранил и не умалил свою отвагу. Зажатый благодаря своей смелой игре в жестокие тиски между нарождающейся тиранией и воскресающей свободой, с одной стороны, и между Наполеоном, приносящим отечество в жертву своим личным интересам, и Францией, не желающей идти на гибель ради одного человека, с другой стороны, Фуше вселял страх в императора, льстил республиканцам, успокаивал Францию, подмигивал Европе, улыбался Людовику XVIII, вел переговоры с дворами, обменивался жестами с господином Талейраном и поддерживал своим поведением равновесие; это была необычайно трудная, столь же низкая, сколь и возвышенная, но во всяком случае грандиозная роль, которой история поныне не оказала должного внимания. Роль, не отличающаяся благородством души, но не лишенная любви к отечеству и героизма, в которой подданный поднялся до положения повелителя, министр превзошел властелина, в которой Фуше стал посредником между империей, реставрацией и свободой, посредником — благодаря своему двуязычию. История, осуждая Фуше, должна будет признать его смелость в эпоху ста дней, превосходное ведение переговоров с партиями, величие его интриг, которые должны были бы поставить его в ряд с самыми выдающимися государственными деятелями века, если бы существовали подлинные государственные деятели, лишенные характера и добродетелей».
Читать дальше