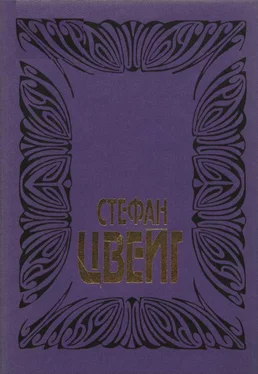И на этот раз они не осмеливаются высказать своего мнения. Лишь бы не вторгаться во владения Комитета, этого незримого трибунала! Оправдательная речь Фуше не принимается, но она и не отвергается — ее пересылают на рассмотрение Комитету. Другими словами, она причаливает к тому берегу, который Фуше так тщательно старался обойти. Его первая битва проиграна.
Теперь и его обуял страх. Он слишком далеко забрел, не зная местности: лучше быстро пуститься в обратный путь. Лучше капитулировать, чем вступать в единоборство с могущественным вождем. И вот Фуше в раскаянии преклоняет колени, склоняет голову. В тот же вечер он отправляется на квартиру Робеспьера, чтобы высказаться или, говоря откровенно, просить прощения. Никто не присутствовал при этом разговоре. Известен лишь его результат, но по аналогичному посещению, с жуткой выпуклостью описанному в мемуарах
Барраса, можно его вообразить. Прежде чем подняться по деревянной лестнице маленького дома на улице Сент-Оноре, где Робеспьер выставляет напоказ свою добродетель и свою нищету, Фуше должен подвергнуться допросу хозяев, оберегающих своего бога и жильца, как священную добычу. Вероятно, Робеспьер принял его, как и Барраса, в тесной, тщеславно украшенной лишь его собственными портретами комнате, не пригласив сесть, стоя, холодно, с нарочито оскорбительным высокомерием, как жалкого преступника. Ибо этот муж, страстно влюбленный в добродетель, столь же страстно и порочно влюбленный в собственную добродетель, не знает пощады и прощения для человека, когда-то державшегося иных взглядов, чем он. Нетерпимый и фанатичный, Савонарола разума и «добродетели», он отвергает всякое соглашение, не признает даже капитуляции своего противника; даже там, где политика властно требует соглашения, ненавистное упорство и догматическая гордость не позволяют ему уступить. Что бы ни говорил тогда Фуше Робеспьеру и что бы ни ответил ему судья, одно несомненно: его встретили недобром, а уничтожающим, беспощадным выговором, неприкрытой холодной угрозой, смертным приговором ёп effigie. И возвращаясь по улице Сент-Оноре, дрожа от гнева, униженный, отвергнутый, обреченный, Жозеф Фуше понял, что с этой поры есть лишь одно спасенье для его головы: голова Робеспьера должна раньше свалиться в корзину, чем его собственная. Война не на жизнь, а на смерть объявлена. Поединок между Робеспьером и Фуше начался.
Этот поединок Робеспьера и Фуше — один из самых интересных, самых волнующих психологических эпизодов в истории революции. Оба незаурядно умные, оба политики, они все же оба — вызванный и вызывающий — впадают в общую ошибку: они недооценивают друг друга, полагаясь на старое знакомство. Для Фуше Робеспьер все еще измученный, тощий провинциальный адвокат, забавлявшийся с ним вместе шутками в арасском клубе, фабриковавший слащавые стишки в духе Грекура* и впоследствии утомлявший Национальное собрание 1789 года своим пустословием. Фуше слишком поздно заметил или, быть может, вовсе не заметил, как в результате упорной, беспрерывной работы над собой и воодушевления своей задачей Робеспьер из демагога превратился в государственного деятеля, из ловкого интригана — в прозорливого политика, из краснобая — в оратора. Ответственность большей частью возвышает человека, и Робеспьер вырос от сознания важности своей миссии, ибо среди жадных барышников и крикунов он чувствует, что судьба сделала спасение республики задачей его жизни. Осуществление своего представления о республике, о революции, нравственности и даже божестве считает он своей святой миссией перед человечеством. Эта непреклонность Робеспьера является и красотой и слабостью его характера. Ибо, опьяненный собственной неподкупностью, околдованный своей догматической твердостью, он всякое инакомыслие считает не разногласием, а предательством, и ледяной рукой инквизитора отправляет каждого противника, как еретика, на современный костер — гильотину. Нет сомнения: великая, чистая идея воодушевляет Робеспьера 1794 года. Вернее сказать, она его не воодушевляет, она застыла в нем. Она не может покинуть его, так же как и он ее (судьба всех догматических душ), и это отсутствие заражающей теплоты, увлекающей человечности лишает его поступки истинно созидающей силы. Его мощь только в упорстве, его сила — в непреклонности: диктатура стала для него смыслом и формой жизни. Он должен наложить на революцию отпечаток своей личности или погибнуть.
Читать дальше