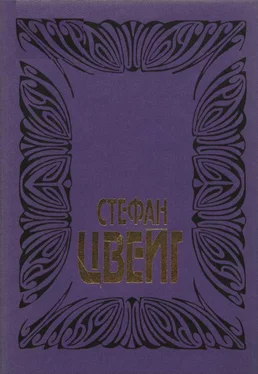Окровавленный, раздробленный череп Шалье как святыню привозят в Париж, с пышной торжественностью показывают Конвенту и, подстрекая народ, выставляют его в Нотрдам. Все нетерпеливее бросают они обвинения кунктатору Кутону: он вял, ленив, труслив, недостаточно мужествен, чтобы привести в исполнение примерную месть. Здесь нужен беспощадный, надежный и искренний революционер, не боящийся крови, способный на крайние меры, — железный и закаленный человек. В конце концов Конвент уступает их требованиям и шлет в злосчастный город на место слишком милостивого Ку-тона новых палачей: самых решительных своих трибунов — порывистого Колло д’Эрбуа (о котором легенда повествует, что его в бытность артистом освистали в Лионе и потому он самый подходящий человек, чтобы проучить граждан этого города), а с ним радикальнейшего проконсула, прославленного якобинца и крайнего террориста — Жозефа Фуше.
Действительно ли неожиданно призванный для свершения кровавого дела Жозеф Фуше был палачом, «кровопийцей», как в то время называли передовых бойцов террора? Судя по его словам — безусловно. Едва ли кто-нибудь из проконсулов вел себя в порученной ему провинции решительнее, энергичнее, радикальнее, революционнее, чем Жозеф Фуше; он беспощадно реквизировал, грабил церкви, захватывал богатства и душил всякое сопротивление. Однако — и это чрезвычайно характерно для него! — только в словах, приказах и запугиваниях проявляется его террор, ибо за все время его власти ни в Невере, ни в Кламеси нс пролилось ни одной капли крови. Пока в Париже гильотина работает, как швейная машина, пока Карье в Нанте сотнями топит «подозрительных» в Луаре, пока по всей стране идут расстрелы, убийства, травли, Фуше в своем округе не свершает ни единой политической казни. Он знает — это лейтмотив его психологии — трусость большинства людей, он знает, что бурный, сильный террористический жест большей частью заменяет террор. И когда впоследствии, в эпоху пышного расцвета реакции, все провинции обвиняют своих былых повелителей, его округ может засвидетельствовать только то, что он все время грозил казнями, но никто не обвиняет его в том, что свои угрозы он приводил в исполнение.
Итак: мы видим, что Фуше, назначенный палачом Лиона, не любит крови. Этот холодный, бесчувственный калькулятор и игрок — скорее лисица, чем тигр — не нуждается в запахе крови для возбуждения нервов. Он неистовствует (без внутренней лихорадки) на словах и в угрозах, но никогда не требует казней ради наслаждения убийством, ради бешенства власти. Инстинкт и благоразумие (а не гуманность) заставляют его уважать человеческую жизнь, пока его собственная жизнь в безопасности; он угрожает жизни и судьбе человека лишь тогда, когда ставится под угрозу его собственная жизнь или выгода.
В этом тайна почти всех революций и трагическая судьба их вождей: все они не любят крови и все же насильно вынуждены ее проливать. Демулен, сидя за письменным столом, требует с пеной у рта суда над жирондистами, но когда он в зале суда услышал смертный приговор двадцати двум людям, которых сам привлек к ответственности, он вскочил дрожащий, бледный как смерть и выбежал в смятении: нет, этого он не хотел! Робеспьер, поставивший свою подпись под тысячами роковых декретов, за два года до этого в Национальном собрании восставал против смертной казни и клеймил войну как преступление. У Дантона, хотя он был создателем трибунала смерти, вырвалось из глубины смущенной души изречение: «Лучше самому быть казненным, чем казнить других». Даже Марат, требовавший в своей газете триста тысяч голов, старался спасти каждого приговоренного в отдельности. Вина французских революционеров не в том, что они опьянялись запахом крови, а в их кровожадных речах: они сделали глупость, создав ради воодушевления народа, ради засвидетельствования своего радикализма кровавый жаргон и постоянно фантазируя об изменниках и эшафоте. И когда народ, опьяненный, одурманенный, одержимый этими безумными возбуждающими речами, действительно требует провозглашенных обязательными «энергичных мер», у вождей не хватает мужества оказать сопротивление: они обязаны гильотинировать, чтобы избежать обвинения в лживости разговоров о гильотине.
Их деяния вынуждены мчаться за их бурными речами, и вот начинается жуткое соревнование, — ибо никто не осмеливается отстать от другого в погоне за народным благоволением. В силу неудержимого закона тяготения одна казнь влечет за собой другую: игра кровавыми словами превращается в бешенство казней; приносить в жертву тысячи жизней заставляет не наслаждение, даже не страсть, и меньше всего решительность, — а как раз нерешительность, даже трусость политиков, партийных деятелей, не имеющих мужества сопротивляться народу.
Читать дальше