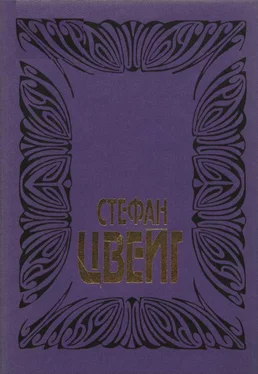С этого дня, с 16 января, хамелеон Жозеф Фуше одевается (до поры до времени) в красный цвет; в один день умеренный становится архинепримиримым радикалом и сверхтеррористом. Одним прыжком он попадает к своим противникам и даже в их рядах оказывается на крайнем, самом левом, самом радикальном фланге. С жуткой поспешностью — лишь бы не отстать от других — усваивает этот холодный ум, этот трезвый кабинетный человек кровожадный жаргон террористов. Он требует решительных мер против эмигрантов, против духовенства; он возбуждает, он гремит, он неистовствует, он убивает словами и жестами. Собственно говоря, он мог бы опять подружиться с Робеспьером и сесть с ним рядом. Но этот неподкупный, с протестантски-суровой совестью человек не любит ренегатов; с удвоенной подозрительностью отворачивается он от перебежчика; шумный радикализм Фуше кажется ему подозрительнее его прежнего хладнокровия.
Фуше своим обостренным чутьем угадывает опасность этого надзора, он предвидит приближение критических дней. Не рассеялась еще гроза над собранием, на политическом горизонте уже обрисовывается борьба между вождями революции, между Дантоном и Робеспьером, между Эбером и Демуленом; следовало бы и здесь, в среде радикалов, принять окончательное решение, но Фуше не любит связывать себя, пока признание не станет безопасным и выгодным. Он знает, что в роковые эпохи мудрость дипломата в том, чтобы быть подальше от иных ситуаций. И вот он предпочитает покинуть политическую арену Конвента на все время борьбы, чтобы вернуться, когда спор будет закончен. Для такого отступления, к счастью, представляется почетный предлог, ибо Конвент избирает двести делегатов из своей среды, чтобы поддержать порядок в округах. Чувствуя себя неважно в вулканической атмосфере зала собраний, Фуше прилагает все старания, чтобы попасть в число этих двухсот, — и его избирают. Ему дали передышку. Пусть тем временем другие борются, уничтожают друг друга, пусть они, страстные натуры, расчищают место для честолюбца! Лишь бы не присутствовать при этом, не стать партией среди партий! Несколько месяцев, несколько недель немало значат в эпоху бешеного бега мировых часов. Когда он вернется, решение уже будет принято, и он сможет тогда спокойно и безнаказанно присоединиться к победителю, к своей неизменной партии: к большинству.
Историки французской революции уделяют не слишком много внимания событиям в провинции. Все описания словно прикованы к парижскому циферблату, к единственным часам, за которыми легко следить. Но маятник, регулирующий их ход, надо искать в стране и в армиях. Париж является лишь словом, инициативой, стимулом, а гигантская страна — действием и решающей силой.
Своевременно понял Конвент, что темпы революции в городе и в деревне не совпадают: люди в селах, в деревушках и горах соображают не так быстро, как в столице, они воспринимают идеи гораздо медленнее и осторожнее и перерабатывают их по собственному разумению. То, что в Конвенте на протяжении часа становится законом, медленно и по каплям просачивается на равнину, большей частью уже фальсифицированным и разжиженным стараниями провинциальных чиновни-ков-роялистов и духовенства, — людей старого порядка. Поэтому окружные часы всегда отстают от Парижа на мировой час. Когда в Конвенте господствуют жирондисты, в провинции еще раздаются голоса в защиту короля; когда торжествуют якобинцы, провинция только начинает приближаться к жиронде. Тщетны поэтому все патетические декреты, ибо печатное слово в ту пору медленно и нерешительно пробивает себе дорогу в Овернь и Вандею.
Это заставило Конвент направить в провинцию действенных носителей живого слова, чтобы ускорить ритм революции по всей Франции, победить почти сопротивляющийся революции темп округов. Он избирает из своей среды двести депутатов, обязанных вершить ею волю, и дает им почти неограниченную власть. Кто носит трехцветный шарф и красную шляпу с перьями, тот обладает и диктаторскими правами. Он может взимать налоги, выносить приговоры, набирать рекрутов, смещать генералов: ни одно ведомство не смеет сопротивляться тому, кто своей священной персоной символически представляет волю Конвента. Его права неограниченны, как некогда в Риме права проконсулов, вершивших в завоеванных странах волю сената; каждый из них диктатор, самодержавный повелитель; на его решения нельзя жаловаться, против них нельзя возражать.
Могущество этих выборных посланцев огромно, но огромна и ответственность. Каждый из них в пределах переданной ему области является как бы королем, императором, неограниченным самодержцем. Но за спиной каждого высится гильотина, ибо Комитет общественного спасения следит за всякой жалобой и требует от каждого немилосердно точного отчета в распоряжении денежными суммами. Кто недостаточно суров, с тем сурово поступят; кто, наоборот, слишком неистовствовал, того ждет возмездие. Если властвует террор — террористические мероприятия оказываются правильными; если чаша весов склоняется к милости, они оказываются ошибкой. Кажущиеся хозяева целой страны — они на самом деле рабы Комитета общественного спасения, подвластные капризам часа: поэтому они беспрестанно поглядывают в сторону Парижа, прислушиваются к его голосу, чтобы, властвуя над жизнью и смертью других, сохранить свою жизнь. Нелегкую должность они взяли на себя. Так же, как генералы революции перед лицом врага, они знают, что только одно может их извинить и спасти от обнаженного меча: успех.
Читать дальше