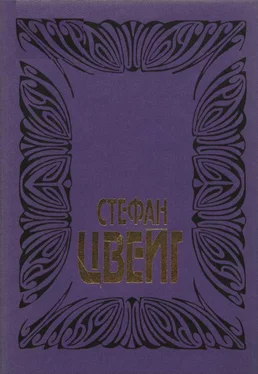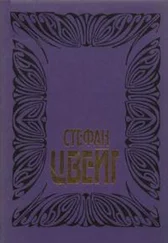Такое наблюдение, спокойное, деловитое, как бы извне осуществляемое, одновременно и облегчается и затрудняется для врача поведением пациента, особенно в начале лечения, благодаря той едва ли не неизбежной установке чувств со стороны больного, которую Фрейд именует «перенесением». Невротик, прежде чем прийти к врачу, долгое время носит в себе избыток своего неиспользованного, неизжитого чувства, не будучи в состоянии от него отделаться. Он, при помощи десятка симптомов, перекатывает его из стороны в сторону, он разыгрывает свой бессознательный конфликт, в самой причудливой игре, перед самим собой; но сразу же, как только он видит перед собой, в лице психоаналитика, внимательного, профессионального слушателя и соучастника в игре, швыряет он свое бремя, как мяч, в него: он пытается перенести свои не поддающиеся воплощению аффекты на врача. Будь то чувство любви или ненависти, он, во всяком случае, вступает в определенное «отношение» с ним, устанавливая какое-то напряженное взаимодействие чувств. Впервые то, что до сих пор бессмысленно обрывалось в мире пустоты и никогда не могло до конца высвободиться, проявляется здесь как на фотографической пластинке. Только с момента такого «перенесения» создается должная психоаналитическая интуиция; всякого больного, который на такое перенесение не способен, следует рассматривать как неподходящего для психоанализа. Ибо для того, чтобы распознать конфликт, врач должен созерцать его развитие в эмоциональной жизненной форме; пациент и врач должны сообща пережить его.
Эта общность психоаналитической работы состоит в том, что больной создает или, вернее, воспроизводит свой конфликт, а врач толкует его смысл. Но при таком толковании смысла он ни в коем случае не должен (как можно было бы, с излишней поспешностью, предположить) рассчитывать на помощь больного: в области психики всегда имеют место разлад, двойственность чувств. Тот же самый пациент, который идет к психоаналитику, чтобы освободиться от своей болезни, зная только ее симптомы, вместе с тем бессознательно цепляется за нее, ибо эта его болезнь не постороннее для него тело, но нечто, им самим созданное, его продукция, деятельная и характерная частица его «я», которую он вовсе не желает отдать. И вот он крепко держится за болезнь, потому что примирится охотнее с ее тяжелыми симптомами, чем с истиной, которой он боится и которую врач хочет ему (собственно, против его воли) объяснить. Так как он чувствует и аргументирует двойственно, — в одном случае исходя из сознания, а в другом из подсознания, — то он сразу и охотник, и преследуемая им дичь; лишь одна часть его существа помогает врачу, другая является его яростным противником, и в то время как одной рукой пациент протягивает врачу будто бы добровольное признание, другая его рука запутывает дело и накидывает покров на истинное его положение.
Таким образом, сознательный невротик ничем не может помочь своему целителю; он не в состоянии сказать ему «правду» потому, что незнание правды или нежелание ее знать и есть то самое, что вывело его из равновесия и привело к расстройству. И даже в моменты искренней готовности к прямодушию он лжет относительно себя. За каждой правдой скрывается другая, более глубокая правда, и если человек признается, то часто только с тем, чтобы за этим признанием утаить другое, еще более сокровенное. Порывы откровенности и чувство стыда ведут здесь друг с другом и друг против друга таинственную игру; рассказчик временами выдает себя своими словами, а временами за этими словами прячется; в разгаре добровольной откровенности воля к признанию неожиданно подавляется. В каждом человеке, чуть только кто-либо захочет приблизиться к его сокровеннейшей тайне, что-то судорожно напрягается; всякий психоанализ в действительности борьба!
Но гений Фрейда всякий раз умеет обратить даже самого заклятого врага в незаменимого союзника. Как раз это сопротивление и выдает нередко человека, вырывая у него признание. Ибо для всякого обладающего тонким слухом наблюдателя человек выдает себя в беседе двояким образом: с одной стороны, тем, что он говорит, и, с другой стороны, тем, о чем он умалчивает; и фрейдовское искусство тайного розыска чует близость решающей тайны там, где хочет и не может заговорить сила противодействия; задержка предательски становится союзником, она дает указания относительно правильного пути. Там, где больной говорит слишком громко или слишком тихо, где он ускоряет темп речи или вдруг останавливается, там хочет заговорить само бессознательное. И эти многочисленные мелкие сопротивления, эти еле заметные колебания, паузы, слишком громкая или слишком тихая речь, которые наступают всякий раз при приближении определенного комплекса, указывают, наконец, явственно, наряду с задержкой, на задерживающий фактор и объект задержки, короче говоря, на предмет розыска — затаенный и замаскированный конфликт.
Читать дальше