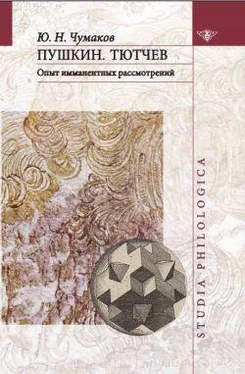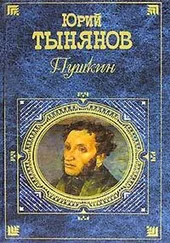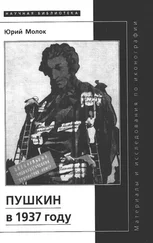Если в «Евгении Онегине» семантическая насыщенность, сопровождающаяся возрастанием степени семантической неопределенности, зависит, наряду со многими другими факторами, от сюжетной многолинейности романа в ее неприкрытом виде (линия автора, линия героев), то в «Моцарте и Сальери» то же самое возникает при внешне однолинейном сюжете, который, однако, оказывается семантически полифоничным в связи с перекрещиванием и выходом друг в друга скрытых планов, о которых шла речь. Однолинейный и единственный сюжет «Моцарта и Сальери» после его аналитического расщепления предстает как имплицитно многоплановый, и эта многоплановость выступает в форме многофабульности. Это означает, что сюжетная полифония драмы обусловлена не столько возможностью различных интерпретаций одной и той же цепочки событий, сколько возможностью пересказать эту самую цепочку по-разному. Один сюжет имеет несколько фабул, как минимум две.
Коллаптированная структура сюжета «Моцарта и Сальери» неизбежно осложняет психологию и онтологию персонажей, внутренние мотивировки их поведения, выражающиеся в словесных и несловесных жестах. В особенности «начертан неясно» Сальери. Без выявления некоторых неочевидных возможностей его понимания интерпретация драмы затруднена и ограничена.
* * *
Семидесятые годы двадцатого века ознаменовались особо пристальным вниманием к «Моцарту и Сальери» со стороны многих исследователей. Драма как будто вдруг необычайно повысила свою излучающую активность. Нет недостатков в глубоких истолкованиях, значительно обогащающих наше понимание пьесы и неизбежно ставящих перед нами все новые и новые проблемы. С одной стороны, все более укрепляется убеждение в «диалогичности» «Моцарта и Сальери». Так, Е. А. Маймин справедливо отмечает: «В трагедии Пушкина не один, а два равноправных, независимых и полноценных голоса: голос Моцарта и голос Сальери. (…) При этом у Пушкина нет только правых и виноватых, в его трагедии неоднозначная и неодноликая правда». [328]С другой стороны, заметно обозначилось иное направление интерпретаций, которое фактически исключает «диалогический» подход, так как Сальери видится фигурой довольно мелкой и пошлой.
Если свести характеристики такого рода в некую парадигму, то мы увидим в Сальери композитора, прошедшего «путь таланта к посредственности», благодаря чему «отныне он скопец, завистник, потенциальный убийца». Он «человек толпы, агент черни, он подвластен ее логике. (…) Происходит столкновение не Моцарта и Сальери, а Моцарта и черни, гения и толпы», [329]«Сальери мельчает прямо на глазах», [330]«из Мстителя во имя Справедливости, из Борца против Провидения», он «превратился в элементарного злодея». [331]В результате Сальери оказывается всего лишь исполнителем преступления, которое как бы внушено ему чужой волей, враждебной гению социальной силой. Разумеется, в подобных истолкованиях есть свое право и логика; они вполне вписываются в контур возможных интерпретаций пьесы. Однако, как нам представляется, Даниил Гранин гораздо более точен, когда пишет, что Сальери «напрасно (…) превратили в некий символ посредственности. Моцарт – гений, Сальери – посредственность, и вся трагедия – это столкновение гения с посредственностью. Если Сальери – посредственность, в чем же его трагедия? Тогда все становится уголовной историей одного убийства». [332]Какие же, прибавим и мы, могут возникнуть «диалог» или «полифония», если одну сторону представляет хотя и гений, но чрезвычайно «наивный», «доверчивый и беззащитный человек» (это сжатая парадигма Моцарта в традиционном понимании), а другую – низменный предатель, заговорщик и палач? Где масштабность героя и даже обоих героев, где грандиозность фанатизма, так сильно ощущаемая в Сальери? И где, наконец, как писал о нем еще В. Г. Белинский, «своего рода справедливость, парадоксальная в отношении к истине»? [333]Любой непредубежденный читатель довольно быстро обнаруживает важное свойство пушкинской драмы: коварный убийца почему-то не вызывает у него ужаса, омерзения и презрения – и это не случайно!
Конфронтация героев Пушкина происходит не столько на эмпирическом, историческом, социальном, психологическом уровнях, хотя и на них тоже, сколько на уровне онтологическом. В этом случае, разумеется, сложные социальные опосредования, при которых Сальери делается игрушкой в руках толпы, уже не могут иметь места. Подобные интерпретации лежат ближе к фабульной поверхности, хотя сами по себе достаточно глубоки. Пушкину, вероятно, хотелось бы создать поэтическую модель человеческих отношений, взятых в простейшем элементе – связи двух, одного и другого (друга). Два контрастных характера, два выдающихся композитора, имеющие реальных прототипов, понадобились Пушкину не для показа сложнейшей психологической коллизии, основанной на зависти (зависть – лишь отправная точка, мотивировка Сальери для самого себя; и поэтому, вероятно, Пушкин снимает заглавие «Зависть»). Перед нами трагический конфликт двух непримиримостей, двух несовместимостей – двух личностей самого крупного масштаба на пределе их творческой экзистенции. Они неслиянны, но и неразрывны, и это подчеркнуто в окончательном заглавии: «Моцарт и Сальери», – заглавии того же антиномического типа, как заглавия всех остальных трех драм. В этом случае оба героя должны быть внутренне свободны и свободно проектировать свою судьбу. И для их неразрешимого конфликта дружбы-вражды и любви-соперничества необходимо, чтобы они были равны в самой глубинной основе их существа. [334]Наконец, сама драматическая в смысле жанра природа «Моцарта и Сальери» также настоятельно требует сшибки двух сторон в их абсолютности, иначе не Сальери, а сам конфликт пьесы будет мельчать на глазах.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу