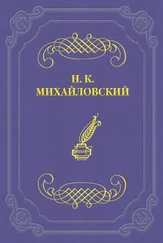Если же земледелия и таких первичных промыслов, каковы охота и пастушество, мало России, то надо всеми способами умножить в ней другие виды промышленности, т. е. горное дело, фабрики и заводы, благо спрос на продукты их явно растет и всякого для них сырья много. Только два приема для этого и можно себе представить: один фритредерский, другой протекционный. По первому надо ждать, чтобы сам народ, сознав надобность, пошел на рудники, фабрики и заводы, устроил их и поддержал против естественного соперничества уже существующих подобных же предприятий. Но и тогда необходимы сотни миллионов ежегодно, а земледелы повсюду их лишены. Да и нужно, сверх того, не только общее понимание современности, которого с классицизмом не получишь, но и твердое знание, соединенное с трудолюбием, а их не дает земледельческий быт, вырабатывающий лишь сметку, авось и небось. Школами, ученьем можно, конечно, многого достичь, но, во-первых, долго ждать, а время не терпит, и в двадцать лет мы столько потеряли, что из рубля стало только две его трети; где же ждать поколений, и учителей таких неоткуда пригласить, да и денег на одно ученье не хватит. Нигде притом ничего подобного не бывало; научившиеся понимать не нашли бы, куда прилагать свои занятия, ведь не им же начинать.
Ничего, кроме нового сумбура, из этого фритредерского приема выйти бы не могло. Протекционный прием, испытанный во многих странах, начиная с Франции Кольбера и Англии времен Кромвеля, далеко не такой благочинный, основывается на привитой к людям заразе, на [481] стремлении к наживе. То, что желают вызвать в стране, в данном случае — горное дело, фабрики и заводы в России, ограждается от соперничества иностранцев таможенными окладами, уже не фискальными, а протекционными, и в лучшем случае, как и было при составлении тарифа 1891 г ., отыскиваются такие размеры этих окладов, чтобы в стране стало выгодным заводить желаемое, несмотря на недостаток капиталов, знаний и опытности, а в то же время размеры эти делаются настолько невысокими, чтобы иностранный ввоз не прекращался, доставлял бы государству возрастающий доход, а жителям — возможность выбирать между своим — новым и чужим — привычным. От развивающейся внутренней промышленности при этом ожидаются не одни барыши для предпринимателей, не одно возрастание внутренних оборотов, как думают фритредеры, а также заработки для жителей и страны, достававшиеся ранее того иностранным рабочим, а затем накопление опыта, привычек к заводским делам, возрастание капиталов и сбережений в стране, а от них и рост государственных доходов, необходимых и для усовершенствования образования, и для уменьшения окладов, падающих на земледельцев, а наконец, при богатстве естественных ресурсов, при дешевизне хлеба и рабочих и при усилении внутреннего соревнования — ожидается дешевизна покровительствуемых товаров и их вывоз для мировой торговли. Все это в совокупности своей дает стройную систему. И она опирается не на доктринерство, а на прямые наглядные опыты недавнего прошлого и на современность.
Я уже не стану приводить здесь опытов с нашим сахарным производством или более наглядный опыт с кавказской нефтью (в 70-х годах цена пуда керосина на месте добычи 1-1/2—2 руб., а в 90-х — 10—20 коп.), потому что о них часто говорилось, да и все же это сравнительно мелкие частности, которые только усложняют, а не убеждают. Гораздо важнее указать общий результат. Чтобы сделать общее сличение правильным, возьмем средние трехлетние результаты до 1891 г . и после него, пропустив 1891 и 1892 гг., отличавшиеся влиянием бывшего голода. Ввозилось иностранных товаров в 1888—1890 гг. на 410 млн руб., а после тарифа, т. е. 1893—1895 гг., на 520 млн руб. ежегодно. Это [482] значит, что новый протекционный тариф не уменьшил ввоза, что было бы непременно, если бы возвышение окладов не отвечало возрастанию спроса, происшедшему от оживления оборотов. Доходы государства также явно возросли: из 903 млн руб. стали равны 1140 млн руб. А так как русский бюджет больше всего ныне опирается на акцизы, на пошлины с оборотов и на обложение доходов, то его возрастание показывает увеличение достатков и сделок, хотя часть прибыли в доходах и определилась поступлениями от вновь выкупленных дорог, увеличением некоторых окладов и т. п. В числе доходов, таможенных пошлин в 1888—1890 гг. поступало в год средним числом по 122 млн руб., а в 1893—1895 гг. — по 162 млн руб. Отношение между всеми государственными и таможенными доходами почти сохранилось, показывая, что тариф 1891 г . не изменил бывшего строя, хотя некоторые оклады и возвышены и хотя до 1891 г . пошлины составляли около 28-1/2 % от стоимости товаров, а после 1891 г . они составляли около 31 %. Чтобы дело стало ясным, чтобы стало очевидным влияние на рост общего народного благосостояния развивающихся видов промышленности и возвышенных тарифов 1891 г . и чтобы получилось правильное представление о современном значении земледельческих заработков в России как целого, надо к предшествующему добавить всем известный факт, что за рассматриваемое время цена хлебов падала и очень сильно. Если бы достатки России опирались преимущественно на ее хлебопашество, как думают многие, особенно наши фритредеры, — ясно, что с падением хлебных цен падал бы общий достаток страны и предшествующие цифры оставались бы непонятными, они и быть бы не могли, если бы верны были понятия наших фритредеров. Но так как больше чем треть русских жителей (особенно на севере, в центре и на западе) покупает ежегодно хлеб, около трети довольствуется местным урожаем и только около трети продает свои избытки хлеба в России и за границей, то выходит, что цены на хлеб не влияют или почти не влияют на общий достаток страны, хотя, бесспорно, и глубоко отзываются на достатке наиболее хлебородных краев. Падение хлебных цен, разоряя эти последние и особенно тяжело действуя на тех, у кого достаток [483] определяется выгодами от продажи хлеба, это самое падение ровно не имеет никакого значения для тех, кто кормится своим хлебом, а для покупающих его — это падение хлебных цен увеличивает достаток. Если весь средний годовой прирост зерновых хлебов всей России принять равным 2500 млн пуд., то, по существующим данным, 1/4 его продается за границу, почти столько же — но все же побольше — сбывается в России жителям городов, северных и промышленных краев и около половины не продается, а прямо поступает самим земледельцам.
Читать дальше

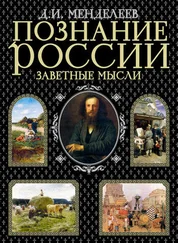

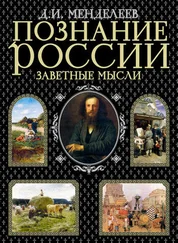
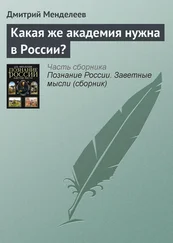



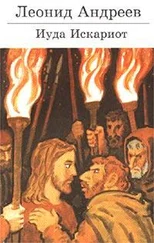
![Юлия Гордон-Off - Два письма [СИ]](/books/404237/yuliya-gordon-off-dva-pisma-si-thumb.webp)