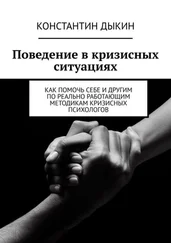Так называемая «лень» является своеобразной разновидностью страха, обычно с примесью других базовых эмоций (чаще всего скуки или ненависти).
Например, тиран или диктатор вызывает ненависть не потому, что присвоил себе чужие права, но потому, что не позволяет другим обладать ими.
В таких случаях говорят нечто вроде "он мешает мне жить".
В частности, именно по этой причине таким людям часто свойственна невероятная жестокость: это их развлекает.
Разновидностями общностей являются и т. н. «классы».
Вообще говоря, везде, где в поведении работает первая этическая система или ее компоненты, обязательно возникают униформа и контроль за внешностью. (Например, в армии, где принцип "будь как все" является организующим и направляющим.)
Единственное, в чем люди такого типа могут вести себя неожиданно — это во взаимоотношениях с «чужими», как правило — с врагами, то есть с теми людьми, с чьим мнением считаться не приходится. Здесь они могут обнаружить недюжинную проницательность. С другой стороны, многие изменения в таком обществе также приходят извне, со стороны других обществ, где идет нормальный прогресс и появляется нечто новое. Поскольку на вызов со стороны надо чем-то отвечать (хотя бы заимствуя), приходится волей-неволей модернизироваться.
Впрочем, для того, чтобы понять, что это такое, достаточно присмотреться к поведению любой молодежной кампании. Отношения внутри них, как правило, построены на ценностях Первой этической системы: неважно, какое содержание вкладывается в эту форму, сама форма остается той же самой. Это не случайно. В ходе "первичной социализации" (то есть усвоения правил жизни в обществе) подросток усваивает в первую очередь самое простое — а Первая этическая система является самой простой из всех возможных. Этот этап жизни можно пройти быстро и незаметно, или задержаться на нем, и тогда возникают группы людей, какое-то время живущих в рамках данной этической системы. Со стороны эти люди могут показаться чем-то интересными — и, кстати, "более свободными", чем все остальные.
* А точнее — в период начала европейской экспансии, когда формировались представления о Востоке. Современные восточные общества гораздо более динамичны; о причинах этого сказано ниже.
Не следует прямо отождествлять открытость со «свободой». Свобода — это признаваемое за человеком право не делать некоторых вещей. Общество с большими возможностями может быть несвободным (допустим, от произвола и насилия со стороны отдельных людей, организаций или государства). Слова "большие возможности" означают только то, что во всех сферах деятельности считаются допустимыми все или почти все этически приемлемые и технически осуществимые модели поведения.
Следует заметить, что это не первый эпизод такого типа в истории Китая. Сам Мао считал себя преемником дела Цинь Ши Хуана, древнекитайского императора, при котором произошло почти полное разрушение древней китайской культуры. В дальнейшем новая династия Хань занялась восстановлением разрушенного при Цинь Ши Хуане, одновременно удержав многие новшества, введенные при нем. Этот период истории Китая был одним из самых значительных и продуктивных.
Похожую эволюцию (только более сложную) претерпела Япония на протяжении последних двух столетий. Анализировать революцию Мейдзи здесь было бы слишком сложно. Следует заметить, однако, что в настоящее время Япония почти исчерпала поведенческий ресурс и может снова попасть в ситуацию сжатия. Последнее крупное «вливание» новых моделей поведения, произошедшее после поражения во Второй Мировой войне, практически растворилось в японском обществе, а попытки создать каналы прямого заимствования моделей поведения Запада не увенчались успехом.
Не следует недооценивать возможности таких обществ. Они вполне могут (на какое-то время) успешно конкурировать со всем остальным миром. Но не следует и переоценивать их. В частности, вторая этическая система не позволяет этим людям самим создавать что-то новое. Отсюда их творческое бесплодие, которое рано или поздно проявляется. В частности, общества второго типа не могут поддерживать существование фундаментальной науки, хотя вполне способны заимствовать чужие достижения и даже (хотя уже с некоторым трудом) вести прикладные исследования. В этом смысле Западу нечего бояться Востока — хотя вполне возможна ситуация, когда Восток сможет достичь больших экономических успехов, чем Запад.
Читать дальше