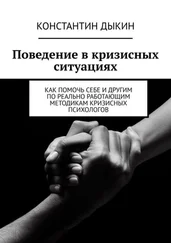Назвать эти общества закрытыми (как общества в рамках Первой этической системы) нельзя. Их, скорее, можно было бы определить как закрывающиеся или сжимающиеся. "Нельзя" становится со временем слишком много, и кончается это тем, что «нельзя» становится делать почти все. Таким образом, именно то, что в какой-то момент содействовало прогрессу общества (очищая его от некоторых форм поведения), в дальнейшем обрекает его на застой.
Общества, основанные на Второй этической системе, являются историческими. Происходящие события не являются просто актами приспособления к меняющейся среде — например, описанный выше "этический коллапс" происходит независимо от обстоятельств (хотя последние могут его ускорить или задержать). На Востоке существует и поддерживается память о прошлом, и возможно сравнение настоящего с ним.
Следует отметить, что консервативные настроения и даже идеализация прошлого, столь характерные для Востока, имеют совершенно иную мотивацию, нежели на Западе. Дело в том, что на Востоке они продиктованы воспоминаниями об утраченных возможностях: их общества более открыты в прошлом, нежели в настоящем, хотя и более хаотичны. [57] Не следует прямо отождествлять открытость со «свободой». Свобода — это признаваемое за человеком право не делать некоторых вещей. Общество с большими возможностями может быть несвободным (допустим, от произвола и насилия со стороны отдельных людей, организаций или государства). Слова "большие возможности" означают только то, что во всех сферах деятельности считаются допустимыми все или почти все этически приемлемые и технически осуществимые модели поведения.
В сжимающееся общество импульсы развития могут прийти только извне. Очень часто ценой за это оказывается разрушение сложившейся культуры и норм традиционной морали. Например, войны, неурожаи, какие-то несчастья, заставляющие людей думать прежде всего о выживании любой ценой, способствуют появлению и развитию новых моделей поведения. В дальнейшем это поведение проходит через фильтр этической системы, постепенно делаясь все более приемлемым и окультуренным. Примером могут послужить события, произошедшие на Востоке в XVII–XX веках в связи с агрессией европейцев. В некоторый момент истории все или почти все традиционные общества Востока были практически разрушены, или, во всяком случае, деморализованы . В наше время некоторые из этих обществ, преодолев этот кризис и усвоив (во время кризиса) некоторые новые модели поведения (частично пришедшие извне вместе с европейцами, частично же выработанные самими этими обществами), успешно встают на ноги и даже процветают (как, например, Япония или Корея). При этом они продолжают оставаться восточными обществами, со своей этической системой. На какое-то время они даже могут в чем-то обогнать или превзойти Европу или Америку, поскольку в период "золотого века" таких обществ (когда худшие варианты поведения уже отброшены, а схлопывание еще не зашло далеко) они могут быть очень эффективны. Однако этот расцвет со временем завершится так же, как и в прошлый раз — постепенным коллапсом, выход из которого может быть только кризисным.
Очевидно, что основной целью, признаваемой этими обществами, является стабильность. Прежде всего здесь имеется в виду стабильность сложившихся отношений между людьми, их ясность и определенность. Зачастую такие общества достигают в этом отношении поразительных успехов. Примером тому может послужить Китай, где в результате тысячелетнего развития была выработана очень сложная система взаимоотношений между родителями и детьми, начальством и подчиненными и т. д. и т. п. Все допустимые виды поведения были строго регламентированы, а недопустимые быстро пресекались. Только события последних двух столетий (европейская и японская оккупации и революция) смогли нарушить эту замкнутую систему. В этом отношении действия Мао во время культурной революции (как бы отвратительно они не выглядели) действительно ломали устоявшиеся нормы поведения, создавая тем самым некоторый простор для будущего — так что название "культурной революции" эти акции имели вполне законно. [58] Следует заметить, что это не первый эпизод такого типа в истории Китая. Сам Мао считал себя преемником дела Цинь Ши Хуана, древнекитайского императора, при котором произошло почти полное разрушение древней китайской культуры. В дальнейшем новая династия Хань занялась восстановлением разрушенного при Цинь Ши Хуане, одновременно удержав многие новшества, введенные при нем. Этот период истории Китая был одним из самых значительных и продуктивных.
В сочетании с европеизацией, также несущей новые модели поведения, все это предотвратило схлопывание общества и обеспечило базу для нового расцвета, который уже начинается в Китае. [59] Похожую эволюцию (только более сложную) претерпела Япония на протяжении последних двух столетий. Анализировать революцию Мейдзи здесь было бы слишком сложно. Следует заметить, однако, что в настоящее время Япония почти исчерпала поведенческий ресурс и может снова попасть в ситуацию сжатия. Последнее крупное «вливание» новых моделей поведения, произошедшее после поражения во Второй Мировой войне, практически растворилось в японском обществе, а попытки создать каналы прямого заимствования моделей поведения Запада не увенчались успехом.
Читать дальше