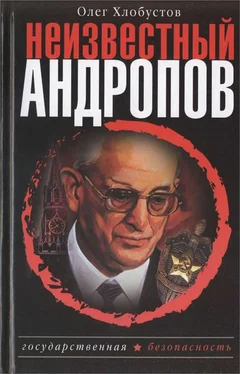Вот о чем, оказывается, мечтала — нет, разумеется, не вся, но некоторая — часть российской интеллигенции в августе 1918 г.!
Да и в написанных в далеком 1923 г., но впервые опубликованных после смерти всех участников описываемых событий, мемуарах Мельгунов более откровенно признавал, что летом 1918 г. был выработан единый план действий между Антантой и СВР с Национальным центром: «Две задачи стояли на очереди — надо было договориться с союзниками, дабы интервенция не носила характера оккупации, и убедить в бессмысленности всех продолжавшихся переговоров с большевиками... Мы были уверены, что последует более или менее мощный десант, около которого могут сгрудиться русские силы. Мы были уверены, что выступление чехов является как бы выполнением выработанного плана».
Моя задача облегчается тем, что в 2004 г. «Воспоминания и дневники» С.П. Мельгунова впервые были изданы в Москве, через 41 год после их парижского издания и через 47 лет после смерти их автора.
Уже в 1927 г. Мельгунов приводит и следующий красноречивый факт: архангельский антисоветский переворот в августе 1918 г. был совершен... «прорвавшимися туда из Петрограда офицерами при содействии британской разведки, а также вологодской группы «Союза возрождения России».
Такова была «мирная», по выражению Солженицына, работа «демократических» заговорщиков!
Возникает закономерный вопрос: почему бывшие руководители Гражданской войны в России столь откровенны в своих мемуарах? (И, как представляется, ответ на него объясняет, и почему еще долгие годы мы не увидим их изданными на родине их авто-
ров.) Думается, ответ на него состоит в том, что они писали для истории, надеясь, что суд потомков все расставит по своим местам, воздав должное и «правым, и виноватым».
Парадоксально, но факт — и до 1991 г., и после, — хотя французская историография Октябрьской революции — специальность и тема докторской диссертации бывшего «советского» историка Ю.Н. Афанасьева, — эти свидетельства были и остаются неизвестными официальной отечественной историографии Гражданской войны в России.
И внимательных читателей и «Архива русской революции», и переизданных мемуарных сборников «Минувшее» и «Былое» ждут немало интересных находок, открытий и откровений современников и непосредственных участников рассматриваемых событий, якобы неизвестных нашим «маститым» историкам, включая «академика» А.Н. Яковлева и свежеиспеченного «историка» Д.А. Волкогонова.
Имейте хотя бы мужество, чтобы, подобно Мельгунову, честно признать:
Виновны! Виновны в сокрытии правды. Виновны в том, что промолчали (и молчим) о лжи. В том, что отказались «жить не по лжи!».
В предисловии к воспоминаниям Мельгунова, согласно их названию, «писанным во внутренней тюрьме ВЧК в сентябре 1918 г.» (!), есть одно интересное свидетельство: «Справедливость требует сказать: сажали меня часто большевики в тюрьму за «контрреволюцию», но всегда давали возможность работать, допуская широкую передачу книг и письменных принадлежностей».
В воспоминаниях жены историка П.Е. Мельгуновой находим и еще одну любопытную подробность: накануне открытия судебного заседания в здании нынешнего Политехнического музея главный обвинитель... освободил до суда всех обвиняемых.
Или еще один пример. Солженицын пишет: «А была спекуляция (курсив А.И. Солженицына) совершенно политического характера, как указывал декрет Совнаркома... от 22.7.1918 г.: «виновные в сбыте, скупке или хранении для сбыта в виде промысла продуктов питания, монополизированных Республикой (крестьянин хранит хлеб — для сбыта в виде промысла, а какой же его промысел? — А.И. Солженицын), — наказываются лишением
свободы на срок не менее 10 лет, соединенным с тягчайшими принудительными работами и конфискацией всего имущества».
Стоп! — скажем мы себе и обратимся к тексту указанного автором Декрета. И читаем: «...виновные в скупке, сбыте или хранении с целью сбыта в виде промысла...» Улавливаете разницу?
То есть в декрете описан состав преступления спекуляции — скупка и сбыт в целях наживы отнюдь не производителем, так что глубокомысленное замечание Александра Исаевича о «промысле крестьянина» — не спекуляция же его промысел?! — сразу же теряет его смысл, оказывается, что называется, «ни к селу ни к городу».
(В рукописи 1989 г. я писал далее, что сегодня уже представляется явным анахронизмом:
«Возможно, кто-то все же усомнится в нравственности борьбы со спекуляцией. Тогда предложим ему простейший эксперимент: выйдите на улицу и каждому встречному задайте один лишь вопрос: как вы считаете, должны ли привлекаться к ответственности лица, скупающие товары первой необходимости по низким ценам и перепродающие их втридорога?
Читать дальше