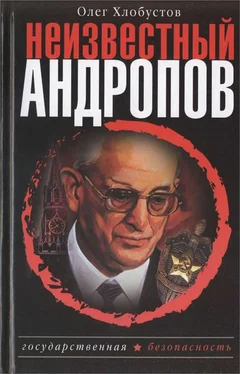Органы КГБ СССР, выполняя функцию социального мониторинга общества, улавливали тревожные симптомы, свидетельствующие об обоснованности указанных прогнозных заключений. Фиксировали они и стремление некоторых зарубежных государств — от Пакистана до Египта и Ватикана использовать эти объективные глобальные социальные тенденции в собственных целях.
Но, как показали события 1986—1991 годов, советское руководство в то время не сумело вовремя оценить своевременное предупреждение.
Не углубляясь излишне далеко в излюбленную некоторыми нашими публицистами, мемуаристами и писателями тему «клановой разобщенности» и «идейного противостояния и противоборства» в ЦК КПСС и его Политбюро, отметим, что объективно в Политбюро действительно были представлены концептуально различные подходы и взгляды на развитие ситуации в стране и мире. Были и весьма недалекие, конъюнктурно-приспособленческие взгляды и поведение отдельных его членов, ориентированных на угождение стареющему Генеральному секретарю.
Но такова уж особенность нашей жизни — общественные идеалы являются и выступают лишь как, по сути дела, недостижимые ориентиры развития того или иного общества, имея как своих искренних и пламенных адептов, так и пассивных попутчиков-приспособленцев, не имеющих собственных взглядов и убеждений и поэтому с легкостью присягающих новым знаменам и меняющих «ориентации» вместе с «колебаниями генеральной линии», многочисленные бесспорные свидетельства чего дала нам история перестройки.
Да, бесспорно, некоторые члены Политбюро ЦК, в том числе Л.И. Брежнев, К.У. Черненко, В.В. Гришин, Н.А. Щелоков, далеко не в той мере были наделены деловыми, организационными и личными качествами, которые нам хотелось бы видеть и которыми должны обладать подлинные представители элиты, высшего руководства страны.
Именно при Л.И. Брежневе, особенно при «стареющем Брежневе», — в декабре 1976 г. Брежнев переступил семидесятилетний рубеж, являющийся возрастом весьма почтенным не только для политиков, — в Политбюро и ЦК КПСС беспрецедентное распространение получили «кумовство» и «групповщина», «круговая порука» и беспринципность, «двоемыслие», безынициативность и склонность к сибаритству, элементарные непорядочность, нечестность [6].
А еще забвение провозглашаемых идеалов и целей общественного развития, пренебрежение к законным правам, интересам и нуждам наших сограждан, то самое «комчванство», за которое в свое время В.И. Ленин предлагал коммунистов «вешать на вонючих веревках».
И хотя, понятно, есть определенный полемический перехлест в следующих словах журналиста Л.М. Млечина: «Наступил момент, когда вся советская элита практически перестала работать и занялась устройством своей жизни»; «Брежнев сам наслаждался жизнью и не возражал, чтобы другие следовали его примеру».
Об этом же свидетельствовал и очень не любящий Андропова (для этого у него имеются веские личные причины) С.Н. Семанов (см. его книгу «Брежнев — правитель «золотого века» (М., 2004)).
Но в целом они отражают некоторую удручающую тенденцию на верхнем и среднем «этажах» партийно-советской номенклатуры.
Отметим также, что подобные явления перерождения коснулись далеко не всей подлинной «элиты» страны — научной, технической, культурной, а только «номенклатурщиков», чей высокий социальный статус определялся и гарантировался исключительно умением и способностью приспособления к «властям предержащим».
Но объективно следует сказать и о том, что отмеченные однозначно негативные черты отнюдь не всегда присутствовали у Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева. И Леонид Брежнев, каким его знали в Днепропетровске, на Малой Земле под Новороссийском, в Молдавии, Казахстане, Москве в 1962—1974 годах, существенно отличался от «Брежнева образца 1976—1982 годов».
И, быть может, эта, очевидная для многих, метаморфоза в физическом и моральном облике руководителя государства и является еще одним невыученным и неизвлеченным уроком из нашей недавней истории?
Как мне представляется, автор, дерзнувший писать на исторические темы, во-первых, обязан объективно следовать изложению реальной хронологической последовательности событий прошлого.
Во-вторых, пытаясь раскрыть, выявить логику и движущие «пружины» исторического процесса, дать их собственную интерпретацию — вплоть до попытки изложить свою версию мотивов действий отдельных исторических персонажей, однако аргументируя этот личный взгляд и подтверждая его фактологическими доказательствами.
Читать дальше