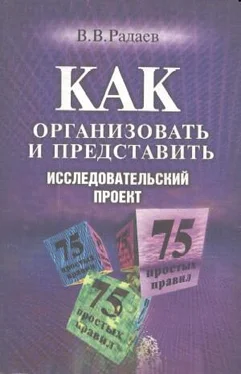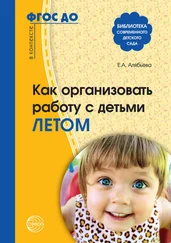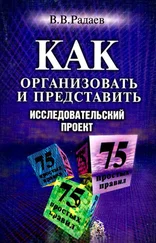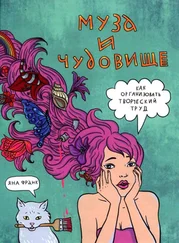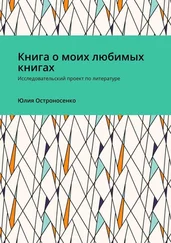Ловушка подстерегает организаторов в самом начале обсуждения, когда кажется, что времени впереди много. Между тем, именно здесь, когда задается первоначальный ритм обсуждения, расслабляться опасно. Посему предлагаемые правила игры, касающиеся регламента, следует заявить перед началом выступлений и, что самое трудное, пытаться им следовать с первых минут. Если же позволить нарушить регламент одному из выступающих, то мы сразу же попадаем в ловушку, становясь заложниками принципа справедливости: нельзя жестко ограничивать одного, если мы только что дали послабление другому. Люди болезненно реагируют на подобную дискриминацию, и аудитория несомненно встанет на сторону «обиженного», а весь наш регламент (вместе со сценарием) полетит под откос.
Итак, ведущий обязан тщательно следить за временем и призывать выступающих к порядку. Конечно, не нужно перебарщивать – стоять над человеком с секундомером и добиваться стопроцентного соблюдения регламента, прерывая его (ее) посреди слова или отключая микрофон (как это делали в первой горбачевской Думе). Мелкие компромиссы неизбежны. Но пускать дело на самотек опасно. И каждая дополнительная минута, предоставленная докладчику на завершение мысли, должна подаваться не иначе как знак особого к нему внимания. При этом следует изначально создавать атмосферу, в которой каждый, кто выходит на трибуну, ясно понимает, что обречен, – продолжать говорить, сколько вздумается, не удастся ни при каких обстоятельствах.
Как же побудить докладчика (уважаемого человека и известного специалиста) свернуть свое затянувшееся выступление, не нанеся ему при этом смертельной обиды? Дело это не простое и к тому же деликатное. Во-первых, твердость должна сочетаться с исключительной вежливостью. Во-вторых, проявлять настойчивость следует в формах, которые не мешают самому выступлению, не сбивают докладчика с мысли, не дают ему «потерять лицо» и, вдобавок, не отвлекают аудиторию. Лучше всего отказаться от громогласных объявлений по всему залу: «Пошла последняя минута выступления!», а тихо подсунуть выступающему записочку, причем, непременно убедиться в том, что ее нехитрое содержание прочитано. Записок может быть две. Первая предупреждает о том, что время приближается в концу. Так, при коротких выступлениях мы сообщаем, что осталась одна минута, при стандартных докладах на конференции (15-20 мин.) – две минуты, при более длинных докладах – пять минут. Вторая записка (более надрывного содержания) сообщает, что, к великому прискорбию собравшихся, время выступления окончательно истекло.
Если после этого докладчик продолжает говорить, мы попадаем в пикантную ситуацию. Грубо прерывать «нарушителя конвенции» не принято, но и бездействовать тоже нельзя. В ход идут способы мягкого давления. Так, председатель начинает неотрывно смотреть на выступающего. Затем можно встать, не говоря ни слова, всем своим видом выражая немой укор и создавая у докладчика нарастающее ощущение дискомфорта. Если эта более активная «интеллигентская» мера не приводит к результату, приходится (вежливо!) прерывать выступление (аккуратно уловив окончание смыслового фрагмента) и настоятельно просить «сделать очень короткое заключение по сказанному». Если же и в этом случае докладчик не отреагирует на наши призывы, значит, мы пригласили не того человека и следует сделать оргвыводы на будущее.
Иногда, чтобы облегчить нелегкий труд председательствующего, контроль можно переложить на специально обученных лиц. Так, например, в 1999 г. я столкнулся с интересным опытом контроля над временем выступлений на Ежегодной конференции Международного общества по новой институциональной экономике (ISNIE) в Вашингтоне, когда напротив трибуны сидела девушка-ассистент с двумя карточками, похожими на те, что раньше использовались судьями в фигурном катании. Одна из них была желтой, другая – красной. Когда до конца выступления оставались две минуты, выбрасывалась желтая карточка, когда же время заканчивалось, появлялась угрожающая красная карточка, и докладчик должен был стремительно сворачивать свои рассуждения. Кстати, вскоре в 2000 г. мне удалось «импортировать» и применить эту замечательную «семафорную» систему на конференции по экономической социологии в Москве, и надо сказать, что сработала она прекрасно. И хотя подобная схема сигнализации в наших условиях пока что встречается редко и выглядит непривычно, ее вполне можно рекомендовать к употреблению. Попробуйте ввести ее в порядке эксперимента или своего рода забавной игры. А потом, глядишь, и приживется. Данная система хороша еще и тем, что снимает весомую часть репрессивных функций с председательствующего, создавая иллюзию того, что регламент обеспечивается не личной волей отдельного человека, а безличной организационной машиной. Ведь на семафор не обижаются.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу