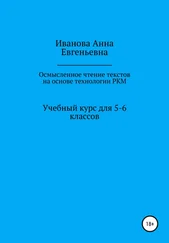В 1931 году Хармс пишет маленький текст, обращенный, по-видимому, к Эстер:
Прежде, чем придти к тебе, я постучу в твое окно. Ты увидишь меня в окне. Потом я войду в дверь, и ты увидишь меня в дверях. Потом я войду в твой дом, и ты узнаешь меня. И я войду в тебя, и никто, кроме тебя, не увидит и не узнает меня.
(Псс—2, 35)
Совокупление мыслится Хармсом как мистический акт вхождения в дом, вхождения тайного, скрытого от профанного взгляда. Нечто подобное имеет место и в «Сабле»: по сути дела, конечной целью «поражения» девы-дома саблей является достижение андрогинного единства.
То, что Хармс рассматривает совокупление не как банальный физиологический акт, а как мистическое действо, говорит о его знакомстве с различными оккультными доктринами, заимствовавшими свою символику в древних верованиях. В бумагах Хармса сохранился лист, на котором изображено несколько таких архаических символов: крест жизни, так называемый crux ansata, состоящий из тау-креста и венчающего его овала; цветок; сефиротическое дерево, перевернутое корнями вверх. В самом низу листа нарисовано окно — излюбленный хармсовский символ, а в самом верху — расположены три знака, воспроизводящие, в зашифрованном виде, имя египетского бога Осириса. Анализ всего комплекса значений, связанных с данными символами, не входит здесь в мою задачу: об этом уже писали и М. Ямпольский, и А. Герасимова с А. Никитаевым [397]. Я хотел бы обратить внимание лишь на крест жизни, в изображении которого комбинируются женское (овал) и мужское (тау-крест, имеющий форму пениса) начала. Тем самым эксплицируется глубинное единство двух стихий, служащее основанием круговорота жизни и смерти.
В середине тридцатых годов Хармса особенно интересует проблема разделения единой до этого пустоты на «то» и «это», на «там» и «тут». Этой проблематике посвящен трактат под условным названием «О существовании, о времени, о пространстве» и примыкающий к нему текст, в котором речь идет об ипостаси и о кресте. По Хармсу, «троица существования», которую образуют время, пространство и препятствие (препятствие — это земной мир), позволяет проникнуть в тайну единосущия: Бог един, но в трех лицах. «Крест есть символ ипостаси, т. е. первого закона об основе существования», — утверждает поэт ( Чинари—2, 400). И далее Хармс рисует египетский тау-крест, называя его «ключом жизни». Наконец, два заключительных пункта текста непосредственно включают его в контекст учения о тринитарности мирового процесса; это учение, основы которого были разработаны итальянским средневековым мистиком Иоахимом Флорским, пользовалось популярностью среди представителей русского Серебряного века, в числе которых были и Н. Бердяев, и Д. Мережковский, и С. Булгаков. Так, в 1916 году С. Булгаков и П. Флоренский написали предисловие к книге нижегородской журналистки А. Н. Шмидт (1851–1905) «Третий Завет», в которой говорилось о близости конца истории и о необходимости третьего откровения, откровения Святого Духа. Бердяев, со своей стороны, описывал мистическую диалектику троичности в следующих терминах:
В лоне абсолютного бытия, в Перво-Божестве, совершается предвечно весь процесс мистической диалектики: разделение Отца и Сына и примирение в Духе. <���…> Тот же диалектический процесс совершается в творении, но таинственно отраженным: история мира проходит эпохи Отца, Сына и Духа [398].
Хотя у Хармса эта «отраженность» троичности в историческом процессе принимает несколько иную форму — сама земная история мыслится им как единое целое, противопоставляемое изначальной и грядущей райской пустоте (Рай-Мир-Рай), — сохраняется тем не менее самый главный принцип диалектики троичности — ее динамика, движение к новому обретению в Святом Духе безгрешности и покоя, утраченных на Земле. Не случайно в таблице «троицы существования» Хармс относит «творение» и «уничтожение» не к эпохе Бога-Сына, а к эпохам Бога-Отца и Бога Духа Святого соответственно; тем самым подчеркивается, что «творение» и «уничтожение» принадлежат как бы двум эпохам одновременно: к примеру, творение мира (если воспользоваться терминологией Иоахима Флорского, его «initiatio» — «зачатие») укоренено в эпохе Бога-Отца, и в то же время сам мир («fructificatio» — «появление плода»), его история представляют собой уже другую эпоху.
Эпоха Святого Духа будет эпохой творчества, в ней достигается окончательное антропологическое откровение как откровение космическое и божественное. Только в религиозном откровении творчества человек, по Бердяеву, может преодолеть царство необходимости и создать иной мир, иное бытие. Но прорыв в иной мир есть не что иное, как преодоление старого мира и в конечном счете его разрушение. Переход к иному небу и иной земле невозможен без апокалиптической катастрофы, которая, прерывая внутреннее развитие мировой истории, всегда трансцендентна.
Читать дальше