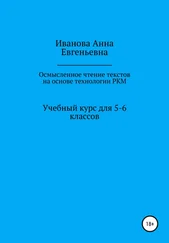По правде сказать, я многого не знаю, — признается он. — Например, о смерти моей матери. Была ли она мертва, когда я прибыл сюда? Или умерла потом? В том смысле, чтобы уже можно было похоронить. Не знаю. Возможно, ее еще не хоронили. Но как бы то ни было, я нахожусь в ее комнате. Сплю в ее кровати. Хожу в ее горшок. Я занял ее место. И, наверное, становлюсь похож на нее все больше и больше. Единственное, чего мне не хватает, чтобы походить на мать, — это сын. Возможно, где-то у меня есть сын. Думаю, что нет. Он стал бы сейчас уже стариком, почти таким же, как я.
(Моллой, 3–4)
Как справедливо отмечает А. Тальяферри,
женские персонажи трилогии олицетворяют собой этапы постижения фемининности, которые проходит беккетовский герой на сказочном пути к Великой Матери; примечательно поэтому, что у Моллоя, стремящегося покинуть дом Лусс, складывается впечатление, что «его уход не окончателен» и что он может повлечь за собой, как это происходит у Вико, возвращение в ту точку, откуда он намеревался отправиться в путь [123].
Линейность исторического процесса превращается у Беккета в замкнутость архетипического бытия.
Любопытно, что в поэтический период своего творчества Хармс рассматривал круг как совершенную фигуру, в которой отражается целостность первоначального бытия. Здесь прослеживается определенная связь с алхимической традицией, ведь для алхимиков Адам, Первоначальный Человек, является гермафродитом, заточенным в Физис, в неупорядоченную, хаотическую массу бытия. «Это сферический, то есть совершенный человек, появляющийся в начале и в конце времен, выступающий началом и концом человека как такового. Это целостность человека, находящаяся по ту сторону разделения полов и достижимая лишь путем воссоединения мужского и женского» [124], — пишет Юнг. В одном из незаконченных стихотворений Хармса появляется гностик, в уста которого поэт вкладывает следующие слова:
Гностик: Я закрываю глаза [125]на всякое дело,
не помеченное в нашей книге Иисуса Христа.
И если девы показывают свои голые тела,
то пусть глядят на них глаза невольников Сатаны
но мои глаза будут глядеть на юношей
стоящих по форме торжественных букв
из которых слагается рыба.
(Псс—1, 317)
Показывая свои голые тела, девы призывают гностика стать «невольником Сатаны», отдаться во власть сексуального влечения; он, однако, предпочитает смотреть на юношей — очевидный гомосексуальный мотив, скрывающий под собой стремление к андрогинности, к обретению целостности Христа, идея о гермафродитизме которого была распространена и среди гностиков, и среди алхимиков, и в мистических течениях восточной Церкви.
Беккетовский герой также мечтает о том, чтобы прямая линия существования свернулась в круг, отражающий единство посмертного и дородового небытия.
Мне бы только голову да две ноги, — грезит персонаж «Никчемных текстов», — или хотя бы одну, в центре, я удалился бы подскакивая. Или только круглую, гладкую голову, не нужно никаких очертаний, я бы катился, катился своим путем, как нематериальный дух [126].
Вот почему герой Беккета часто принимает позу зародыша в чреве матери, свертываясь в клубок. Смешение образов матери и любовницы — этап на пути к тому недифференцированному и бессознательному бытию, достижение которого, как надеялся Хармс, открывает дорогу к сверхсознанию, а для Беккета означает максимальное приближение к смерти. Но именно эта «разлитость», замкнутость на себе архетипического бытия и представляет собой главную угрозу, с которой пришлось столкнуться и Хармсу, и Беккету: регрессия в анонимное и аморфное влечет за собой растворение в бесструктурном, «плазматическом» бытии. Но что опаснее всего для писателя, так это то, что подобное растворение структуры угрожает самому тексту, контроль над которым он постепенно теряет.
Я уже отмечал выше, что старухи очень часто встречаются в текстах обоих писателей, и это не случайно, ведь они занимают некую промежуточную позицию между жизнью и смертью: они уже вроде бы не совсем живы, но в то же время не совсем умерли [127]. М. Ямпольский отмечает, опираясь на теорию Майкла Риффатера, что сема «старуха» включает в себя «определенный семантический ареал, в котором смерть занимает, разумеется, не последнее место» ( Ямпольский , 38). Согласно Риффатеру, сказать «старуха умерла» значит эксплицировать смысл, который и так уже заложен в семе «старуха» [128]. Однако старухи Хармса обладают удивительной способностью воскресать из мертвых. Первая же встреча рассказчика из повести «Старуха» (1939) [129]со старухой наглядно демонстрирует ее выключенность из времени, атемпоральность:
Читать дальше