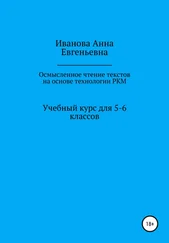Жизнь предстает нам в виде следующей картины, — говорит друг Хармса. — Полужидкая неорганическая масса, в которой происходит брожение, намечаются и исчезают натяжения, узлы сил. Она вздымается пузырями, которые, приспосабливаясь, меняют свою форму, вытягиваются, расщепляются на множество шевелящихся беспорядочно нитей, на целые цепочки пузырей. Все они растут, перетягиваются, отрываются, и эти оторванные части продолжают как не в чем ни бывало свои движения и вновь вытягиваются и растут.
(Чинари—1, 87–88)
Наблюдать такую жизнь — значит присутствовать при «Противоположном Вращении», когда мир превращается в то, из чего возник, «в свою первоначальную бескачественную основу» ( Чинари—1, 79). Недаром Липавский говорит о плазме — субстанции, которая еще не подверглась дифференциации, находится, как и зародыш в чреве матери, в эмбриональном состоянии; возвращение в чрево матери влечет за собой не только уничтожение конкретной сознательной личности и растворение в безындивидуальной бессознательной жизни, но и «остановку истории» [490], обращение вспять эволюционного процесса и возврат в ту эпоху, которая предшествует великому осушению морей и переходу от несложных бесскелетных морских организмов к формам более сложным, таким как сухопутные животные и человек. В доисторической вселенской грязи ползет безымянный персонаж беккетовского романа «Как есть»; его, вслед за одним из воплощений Безымянного, можно было бы назвать Червем, о «царстве» которого в последнем романе трилогии говорится следующее:
Здесь нет ни деревьев, ни камней, а если и есть, то факты таковы, что их словно и нет, есть факты, нет растений, нет минералов, только Червь, неизвестно к какому царству относящийся, Червь есть, как будто.
(Безымянный, 404)
Ш. Ференци, который дал подробную психоаналитическую интерпретацию эволюционному процессу, замечает, что запах, который источает женский половой орган, действует возбуждающе постольку, поскольку он пробуждает желание вернуться внутрь матки [491]; интерес Хармса к женским половым органам, к их выделениям, напоминающим своей бесструктурностью плазму, к их запаху нужно рассматривать именно в данном контексте [492].
«Гордитесь, вы присутствовали при Противоположном Вращении», — говорит Липавский, хотя, по правде говоря, присутствовать при нем нельзя, можно лишь в нем участвовать, постепенно теряя свою индивидуальность и растворяясь в желеобразной массе неорганического мира. Это растворение, однако, выступает лишь как первый этап алхимического процесса, предполагающий новое рождение из материнского чрева. Примирение враждующих элементов находит свое соответствие в достижении внутренней целостности, проявляющей себя как единство духа-анимуса и души-анимы; по свидетельству Юнга, алхимик XVI века Жерар Дорн, одним из первых признавший психологический аспект алхимического брака, понимал unio mentalis как «психическое уравновешивание противоположностей „в преодолении тела“, состояние покоя, превосходящее эмоциональные и инстинктивные порывы тела» [493]. Вспомним, что у Хармса эпоха Бога Духа Святого есть эпоха покоя и безгрешности. Дух, таким образом, притягивает душу к себе, но, поскольку душа заставляла тело жить, ее отделение от тела, освобождение от власти инстинктов и эмоций мыслится как смерть телесного. «Когда противоположности соединяются, вся энергия исчезает: никакого течения больше нет» [494]. Материнское чрево превращается в могилу. «Да, у меня была бы мать, у меня была бы могила», — мечтает герой «Никчемных текстов». Но тут же вынужден добавить:
Я никогда оттуда бы не вышел, оттуда не выходят, моя могила здесь, моя мать здесь, сегодня вечером это здесь, я умер и рождаюсь, не закончив, не имея возможности начать, такова моя жизнь [495].
Возвращение в материнское лоно грозит еще большей стабилизацией бытия. Конечную точку своего путешествия — материнское чрево — Безымянный описывает следующим образом:
В конце концов я оказался, ничуть этому не удивившись, в строении, как уже говорилось, круглой формы, первый этаж которого занимала единственная комната, напоминающая арену, где я завершал свои обороты, ступая ногой прямо по нераспознаваемым останкам своей семьи, то по чьему-то лицу, то по животу, как придется, погружая в них наконечники костылей, уходя и возвращаясь. Сказать, что это доставляло мне удовольствие, было бы преувеличением, ибо я испытывал скорее раздражение из-за того, что приходится барахтаться в такой грязи именно тогда, когда для завершения пути необходима твердая и ровная опора. Мне приятно думать, даже если это и неправда, что последние дни своего долгого пути я провел на внутренностях мамочки и оттуда же отправился в следующее путешествие. Впрочем, мне все равно, грудь Изольды послужила бы не хуже, или папины половые органы, или сердце одного из моих ублюдков.
Читать дальше