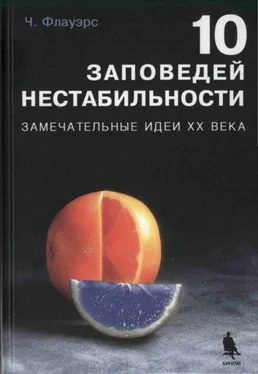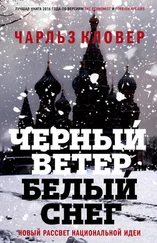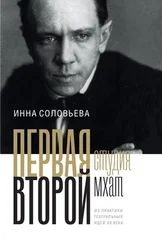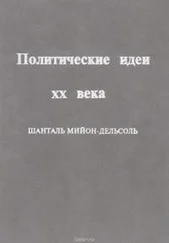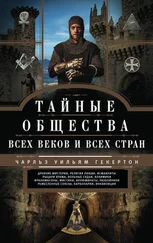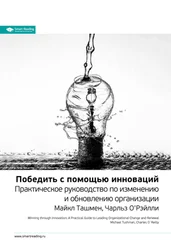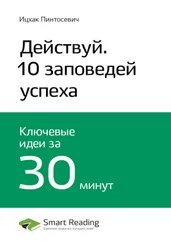***
Еще дальше в исследовании загадочного поведения квантовых объектов продвинулся Гейзенберг, которому удалось обнаружить в проблеме (волна/частица) совершенно неожиданный поворот мысли и придать этой дуальности новый физический смысл. Рассмотрим подробнее процесс взаимодействия светового кванта (фотона) с веществом и вспомним, что способность видеть основана на регистрации фотонов, излучаемых объектом или отраженных от него (например, ночная тьма наступает после захода Солнца, когда линия горизонта прерывает поток солнечного света). Гейзенберг продемонстрировал, что эта ситуация выглядит иначе при освещении фотоном какой-либо субатомной частицы. Действительно, давайте представим себе крошечный фотон (математики называют такие сверхмалые объекты бесконечно малыми), сталкивающийся с отдельным (таким же бесконечно малым) электроном. Конечно, отраженный фотон приносит нам «информацию» о местоположении электрона, но совершенно ясно, что соударение одновременно изменяет это положение из-за самого процесса столкновения, так что получаемая нами информация является недостоверной и фактически говорит лишь о положении электрона до столкновения, а не в текущий момент времени. Читатель может легко сообразить, что посылка следующего фотона (для уточнения информации) не исправляет положения, поскольку он тоже несколько сместит координату электрона и т. д. Кстати, эта ситуация не является выдуманной, а целиком и полностью соответствует условиям и ограничениям реальных экспериментов с квантовыми объектами. Например, длина волны видимого света слишком велика для точного определения координаты электрона, вследствие чего экспериментаторы для повышения точности вынуждены пользоваться электромагнитным излучением с более короткими волнами (например, рентгеновскими лучами), однако такие кванты несут больше энергии и, естественно, значительно сильнее смещают электроны с исходных позиций.
Таким образом, мы никогда не можем точно определить координаты конкретного электрона, а можем лишь указать его положение в момент измерения и приблизительно вычислить (исходя из массы и других параметров столкновения) вероятность его местоположения в некотором диапазоне в последующие моменты времени.
Гейзенберг получил ставшее знаменитым соотношение, связывающее неопределенности в вычислении координат электрона и его импульса, возникающие при любых попытках одновременного измерения этих параметров. Уравнение было названо принципом неопределенности и получило широкую известность и популярность во многих далеких от физики сферах деятельности (например, в поп-культуре), где этому принципу, разумеется, были даны совершенно произвольные и неожиданные толкования.
Введенная Гейзенбергом неопределенность имеет весьма необычный и произвольный характер, так что ее учет может показаться даже «занудством» для всех тех, кому хотелось бы верить в существование физического мира, управляемого строгими и незыблемыми законами, когда при достаточном умении и наличии соответствующей аппаратуры можно осуществлять любые необходимые измерения. В 1927 г. Гейзенберг показал, что обнаруженный им принцип в несколько необычном смысле позволяет прояснить описанную выше запутанную ситуацию с определением координат электрона. Действительно, в соответствии с принципом неопределенности, мы не можем точно определить траекторию электрона, но вполне можем получить вероятность значений его координат в виде некоторой волновой функции. Иными словами, с математической точки зрения, в микромире электрон может быть эквивалентно описан и как волна, и как частица, т. е. проблема связана не с отсутствием достаточно точных методов детектирования микрочастицы, а с принципиальной неопределенностью того, что мы привыкли называть и считать «реальностью».
Из сказанного следует, что электрон имеет дуальную природу, поскольку может выступать в качестве волны, частицы или даже комбинации этих представлений. Почему? Да просто потому, что он способен вести себя по-разному! Вот уже несколько десятков лет физикам приходится удовлетворяться этим ответом, хотя очень многим из них он представляется неубедительным и неточным (Эйнштейн, например, относился к этому ответу с почти нескрываемой неприязнью!). Читателю можно лишь напомнить, что теория относительности действительно весьма сложна и трудна для понимания, но обладает внутренней логикой, собственными строгими законами и позволяет предсказывать результаты экспериментальных наблюдений. Физиков особенно раздражало и сбивало с толку, что в построениях Гейзенберга поведение электрона становилось непредсказуемым.
Читать дальше