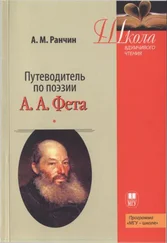4. «Я родился и вырос в балтийских болотах, подле…»: поэзия Бродского и «Медный всадник» Пушкина
В 1975–1976 годах Бродский написал поэтический цикл «Часть речи». В нем есть стихотворение, открывающееся такими строками:
Я родился и вырос в балтийских болотах, подле
серых цинковых волн, всегда набегавших по две,
и отсюда — все рифмы, отсюда тот блеклый голос,
вьющийся между ними, как мокрый волос,
если вьется вообще.
(II; 403)
Эти строки — отголосок, эхо пушкинских стихов, которыми начинается вступление к «петербургской повести» «Медный Всадник»:
На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн…
(IV; 214)
Называя место собственного рождения, Бродский заявляет о принадлежности к петербургской культуре, объявляет себя русским европейцем. Цитируя всем памятные пушкинские строки, он вписывает свое стихотворение в «петербургский текст» — долгий и величественный ряд произведений русской литературы, посвященных «граду Петрову», пронизанных и просветленных общими смыслами, постоянно цитирующих и окликающих друг друга [429]. У истоков «петербургского текста» находится именно «Медный Всадник». Пушкин создал образ города, главные черты которого были унаследованы и отражены другими авторами, писавшими о Петербурге. Отнесение строк о Петре, которыми открывается вступление к «Медному Всаднику», к лирическому герою Бродского — поэту, вероятно, навеяно подобной трансформацией, прежде совершенной Пастернаком: Пастернак в стихотворении «Вариации. 2. Подражательная» описал словами из вступления к «Медному Всаднику» самого Пушкина [430].
Но обращение Бродского с текстом «Медного Всадника» неожиданно и парадоксально. Цитируя вступление к поэме, в котором воспеваются «юный град, полночных стран краса и диво» и его венценосный творец, автор стихотворения «Я родился и вырос в балтийских болотах, подле…» не замечает самого Петербурга. Города как будто бы нет. В пушкинской поэме «мшистым, топким берегам», пустынной местности в Невском устье противопоставлен чудесный город, вознесшийся «из тьмы лесов, из топи блат»:
На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася: бедный челн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел.
<���…>
Прошло сто лет, и юный град.
Полночных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво;
Где прежде финский рыболов,
Печальный пасынок природы,
Один у низких берегов
Бросал в неведомые воды
Свой ветхий невод, ныне там
По оживленным берегам
Громады стройные теснятся
Дворцов и башен; корабли
Толпой со всех концов земли
К богатым пристаням стремятся;
В гранит оделася Нева;
Мосты повисли над водами;
Темно-зелеными садами
Ее покрылись острова <���…>.
(IV; 274–275)
Между тем в стихотворении Бродского «балтийские болота» и «серые цинковые волны», пустынное пространство, где нет никаких «дворцов и башен» («В этих плоских краях то и хранит от фальши / сердце, что скрыться негде и видно дальше» [II; 403]), л о нынешний невский пейзаж. Лирический герой — одинокий человек — и волны… Больше ничего:
Облокотясь на локоть,
раковина ушная в них различит не рокот,
но хлопки полотна, ставень, ладоней, чайник,
кипящий на керосинке, максимум — крики чаек.
(II; 403)
Города или еще, или уже нет. Строки «Медного Всадника», «переписанные» Бродским, приобрели новый смысл, противоположный исконному. Вспоминая пушкинские строки, Бродский одновременно совершает демонстративный отказ от пушкинской темы величия Петербурга и величия его создателя, «державца полумира» [431].
Какова природа этого отказа? Этот жест поэта был бы прозрачно ясен, если бы автор стихотворения разделял славянофильское и почвенническое отношение к Петру, отвергал бы его деяния, не любил бы Петербурга. Но это совсем не так. «Лично мне чем Петр приятен? Чем он и хорош и ужасен? Тем, что он действительно перенес столицу империи на край света. Какие у него для этого были рациональные основания, я уж не знаю. Но он начисто отказался от этой утробной московской идеи. То есть это был человек, по праву ощутивший себя… <���…> Государем!» — заметил Бродский в беседе с Соломоном Волковым [432]. Слышимая в этих словах признательность первому русскому императору за основание прекрасного города на западной границе России роднит Бродского с Пушкиным — автором «Медного Всадника». Петербург для Бродского «самый прекрасный город на свете. С огромной рекой, повисшей над своим глубоким дном, как огромное серое небо — над ней самой. Вдоль реки стояли великолепные дворцы с такими изысканно-прекрасными фасадами, что, если мальчик стоял на правом берегу, левый выглядел как отпечаток гигантского моллюска, именуемого цивилизацией. Которая перестала существовать» (эссе «Less than one» — «Меньше единицы», пер. с англ. В. Голышева [V (2); 26–27]).
Читать дальше